Курсовая: Разрушение Вавилона (Н.И. Вавилов)
Курсовая: Разрушение Вавилона (Н.И. Вавилов)
Государственное образовательное учреждение Лицей № 533
(«Николай Иванович Вавилов»)ученик 11«Г» класса Аксёнов Алексей Руководитель: Квашнина С.И. Санкт-Петербург 2004г. |
Содержание
1) Введение − − − − − − − 3 2) Основная часть − − − − − − − 5 − Ч1 Начало жизненного пути − − − − − 5 − Ч2 Вавилов-педагог и Вавилов-ученый − − − −10 − Ч3 Осада Вавилона − − − − − −25 − Ч4 Костер − − − − − − −41 − Ч5 Постскриптум − − − − − −46 3) Заключение − − − − − − −51 4) Список использованной литературы − − − −54 5) Приложение − − − − − − −55Введение.
Моя работа посвящена жизни, творческим поискам и исканиям великого русского ученого – ботаника, растениевода, генетика, эволюциониста, агронома-практика Николая Ивановича Вавилова. Ученые всего мира отдают дань уважения академику Н. И. Вавилову за проделанную им работу. В нашей же стране на протяжении многих лет его труды были забыты. Может быть, в этом и кроется секрет отставания современного отечественного сельского хозяйства от мирового? Этот вопрос я задавал себе на протяжении всей работы над данной темой. Почему в годы коллективизации и судорожных попыток власти преодолеть ущерб, нанесенный сельскохозяйственному производству уничтожением крепких крестьянских хозяйств, был востребован народный академик Трофим Лысенко, а не академический ученый Н. И. Вавилов? Ответом на этот вопрос, а также на многие другие вопросы, возникающие при рассмотрении сельского хозяйства СССР в целом и деятельности и судьбы Н.И. Вавилова в частности, и является данная работа. Для ответа на поставленный вопрос необходимо не только рассмотреть биографию и личные качества самого ученого, но и учесть сложный и противоречивый исторический фон, в контексте которого происходила деятельность Вавилова. Этому и посвящено введение моей работы. Наука 20 века в России – явление чрезвычайно сложное. В течение нескольких десятилетий после революции она развивалась под давлением мысли об изначальной правильности одного направления и неправильности всех остальных, и это «правильное» объявлялось марксистским. Выбор истины должен был делаться по политическим соображения, наука политизировалась и схематизировалась до предела. Движение науки вперед мыслилась как расправа с теми, кто был не согласен с признанным партией направлением. Вместо научной полемики – обличения, разоблачения, запрещения заниматься наукой, а во множестве случаев – аресты, ссылки, тюремные сроки, уничтожение. Уничтожению подвергались не только ученые, лаборатории, институты, но и книги, рукописи, данные опытов. Рассмотрим политический и исторический фон, на котором возникла и происходила борьба рассматриваемых научных направлений. Октябрьская революция дала жизнь новой общественной системе, явилась началом создания социалистического государства рабочих и крестьян. Новое государство должно было стать мировым центром созидательной работы во всех областях творчества, образцом новых, истинных форм демократизма, социальной справедливости, технического и научного прогресса. Оно отвечало надеждам подавляющегося большинства людей нашей страны. Сталин пришел к власти как преемник Ленина – признанного вождя Октябрьской революции. Он встал во главе государства в условиях огромного авторитета партии, в условиях подъема творческого энтузиазма масс и как бы наследовал часть этого авторитета и доверия. История показала, что это доверие было использовано Сталиным для создания культа собственной личности и уничтожения тех, кто не склонен был раздувать его. Сталина называли гениальным ученым всех времен и народов, однако в действительности его творческое наследие весьма невелико. Как личность он обладал рядом отрицательных качеств, и его гипертрофированная жажда власти, подозрительность, жестокость, коварство, тщеславие, завистливость, нетерпимость к ярким личностям с независимым характером и мания величия создали весьма трудную обстановку не только в политической жизни страны, но в тех научных областях которые входили в сферу его интересов. В 20-30-х годах происходило небывалое количество различных дискуссий, во всех областях науки, искусства, литературы. Различия во мнениях, подходах, и оценках фактов – явление вполне естественное в научной среде. Дискуссии – это продукт и инструмент науки. Истина рождается в спорах. Научная полемика имела первоначально прогрессивный характер, она была начата под влиянием партийного лозунга о развернутом социалистическом наступлении на «фронте науки»; лозунг родился из решений XXI съезда ВКП(б). Однако в условиях массовых репрессий тридцатых годов, в условиях шпиономании и централизованного разжигания страстей, в условиях лихорадочных поисков «врагов народа» во всех сферах человеческой деятельности любая научная дискуссия имела тенденцию к превращению в борьбу с политическим оттенком. Некоторые ученые слишком расширили фронт борьбы с «буржуазными тенденциями» в науке, распространив его на многие области естествознания, стремясь обосновать «классовый подход» даже к анализу проблем, решение которых зависело исключительно от их экспериментальной разработки – одинаково возможной как в социалистических, так и в капиталистических условиях. Приклеивание политических ярлыков в тот период было наиболее легким и соблазнительным способом победить противников, которых нельзя было сломить силой научной аргументации, и некоторые становились на этот путь, приводивший часто не только к разгрому, но и к физическому устранению оппонентов. Необоснованные политические обвинения были обычным явлением для дискуссий, и очень многие споры приводили к трагическим развязкам. Вредительскими и враждебными объявлялись многие ныне реабилитированные научные направления в философии, экономике, педагогике, истории, теории права, литературы, естествознании, технике и т.д. Именно поэтому в 1930-1931 годах были объявлены буржуазными, идеалистическими и антимарксистскими некоторые передовые научные школы, работами которых впоследствии советская наука по праву гордилась. Такая судьба была уготована для известного психиатра В.М. Бехтерева, великого физиолога И. П. Павлова, для А. И. Иоффе, Л. Д. Ландау, И. Е. Тамма, Я. И. Френкеля и других. Такого периода в своем развитии не избежала и дискуссия в области генетики и селекции. Острая полемика возникла в 1929-1932 годах. Спор шел вокруг проблемы наследования приобретенных признаков и реальности «наследственного вещества» (генов), которая стала центральной во всех последующих биологических дискуссиях. Эта дискуссия, начатая в начале тридцатых годов Т. Д. Лысенко, В. Р. Вильямсом, И. И. Презентом и другими, оказала очень сильное влияние на развитие многих областей советской науки. Она отразилась и на состоянии сельского хозяйства, медицины и некоторых отраслей промышленности. Полемика имела огромный международный резонанс и оказала влияние на формирования определенного отношения к нашей стране интеллигенции зарубежных стран. Она породила аналогичные течения в ряде социалистических стран и возбудила те формы борьбы разных научных направлений. Дискуссия оказала прямое влияние на судьбы тысяч ученых, на характер среднего и высшего образования в области биологии, сельского хозяйства и медицины. Ее материалы нашли отражение в научных работах, в школьных учебниках, в философских сочинениях и энциклопедиях, в газетах, в художественной литературе и даже в кино. История этой дискуссии – не только отражение научных споров, но и повествование о трагедии советской науки, описание человеческих судеб и, в частности, судьбы Николая Ивановича Вавилова (1887-1943).Часть 1
Начало жизненного пути Н.И. Вавилова
Хочу стать биологом. Коля Вавилов отцу, 1906 год Николай Иванович Вавилов родился 26 ноября 1887 года в Москве в семье одного из директоров компании «Трехгорная мануфактура». Отец Николая, Иван Ильич был родом из крестьянской семьи. Дед Н.И. Вавилова Илья Вавилович жил со своей семьей и братом Иваном в селе Ивашково Волоколамского уезда Московской губернии (ныне Шаховской район Московской области), находящимся в 40-45 км от города Волоколамск. Он был крестьянином, промышлявшим кроме земледелия скупкой и продажей льна. Нередко в зимнее время ездил Илья Вавилович в Москву и даже Петербург продавать лен. В одну из поездок в Петербург он, видимо, в дороге сильно простудился и, проболев некоторое время, скончался. Похоронили его в Петербурге. На основании сохранившейся свадебной пригласительной карточки Ивана Ильича Вавилова, датированной 3 января 1884 г, Где он называет себя Иваном Ильиным, можно подумать, что Иван Ильич носил фамилию Ильин и лишь позднее изменил ее на фамилию Вавилов. В.Р. Келер пишет: «Причины, побудившие его изменить фамилию, неизвестны. Во всяком случае, в год рождения дочери Александры (1886) он был уже Вавилов. Метрики Александры о родителях начинались так: «Московский мещанин Устюжской слободы Иван Ильич Вавилов и законная жена его Александра Михайловна.». Почему же Иван Ильич, будучи Вавиловым, назвал себя в свадебном пригласительном билете Иваном Ильиным, а не Вавиловым? Вероятно, потому, что в старину говорили: «Иван Ильин сын». Отец Н.И. Вавилова, Иван Ильич Вавилов родился в 1863 году. В раннем детстве был определен к московскому купцу мальчиком на побегушках. Через некоторое время Ванюша Вавилов переходит служить приказчиком в магазин компании «Трехгорная мануфактура», а затем становится и его директором. В сфере торгового дела Иван Ильич Вавилов очень скоро обнаруживает незаурядные способности и острый ум, благодаря чему делается заметной фигурой в своей среде. Это обстоятельство приводит к тому, что акционерная компания «Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры» принимает его своим равноправным членом и поручает ему пост одного из директоров этой компании. Таким образом, Иван Ильич Вавилов из подручного мальчика превращается в одного из крупных коммерческих деятелей Москвы. «Компания «Трехгорная мануфактура» была основана московским купцом В.И. Прохоровым как ситцевое набойное предприятие на берегу реки Москвы в 1799 году на холмах, носивших название «Трех гор». В 1874 году предприятие получило статус «Товарищество Прохоровской Трехгорной мануфактуры». К концу 19 века оно было крупнейшим текстильным предприятием Москвы. Рабочие мануфактуры активно участвовали в революциях 1905, 1917 годов. В 1891 году Ф.А Афанасьев организовал на фабрике социал-демократический кружок. В 1905 году рабочие активно участвовали в Декабрьском вооруженном восстании. Здесь размещался штаб боевых дружин. После подавления восстания 14 дружинников-трехгорцев расстреляли во дворе фабрики, о чем гласит установленная на фабрике доска. Организация РСДРП(б)создана на фабрике в марте 1917 года. Многие рабочие вместе с большевиками вступили в отряды Красной Гвардии. Одним из ее организаторов был большевик Н.Т. Меркулов – председатель районного ревкома, депутат Моссовета. В Октябрьские дни на «Трехгорной мануфактуре» размещались райком партии и районный ВРК. Красногвардейцы фабрики входили в сводный отряд Пресни, под командованием М.И. Златоверова и Ф.М. Шеногина сражались в центре Москвы: на улицах Большая Дмитровка (ныне Пушкинская улица), на подступах к «Метрополю» и Кремлю, у Брянского (ныне Киевского) вокзала. Работницы «Трехгорки» создали санитарный отряд. На «Трехгорной мануфактуре» несколько раз выступал В.И. Ленин, о чем свидетельствует мемориальная доска на здании Дворца культуры. 16 апреля 1921 года на собрании рабочих Ленин был избран депутатом Моссовета. В 1936 году по просьбе коллектива фабрике присвоено имя Ф.Э. Дзержинского, с 1937 года она называется комбинатом. За годы довоенных пятилеток значительно увеличился выпуск ткани при сокращении числа работающих. В 1941-45 годах на фронтах сражались около 1300 работников и работниц мануфактуры. Многие из них погибли, на комбинате была установлена мемориальная доска. Комсомольцу А.П. Живову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. К концу 1941 года «Трехгорная мануфактура» полностью перешла на выпуск военной продукции. В годы послевоенных пятилеток комбинат реконструируется и технически перевооружается, становится комплексно-механизированным предприятием. В 1965 году был основан музей истории комбината. Комбинат был награжден орденами Ленина (1949г) и Трудового Красного Знамени (1944). По данным на 1980 год на хлопчатобумажном комбинате им. Ф.Э. Дзержинского было 2300 ударников, 247 бригад, 25 участков.21 смена, 9 цехов и 2 производства коммунистического труда. Более 2000 работников удостоены правительственных наград. Это старейшее предприятие Москвы входило в объединение Мосхлоппром. Выпускало хлопчатобумажные (ситцы, сатины, бязи, мадаполамы), штапельные ткани бытового назначения и пр. (около 50 артикулов и более 800 км ткани в сутки)». (5, стр.273) Брат Николая Ивановича Вавилова Сергей так вспоминал об отце: «Был он человек умный, вполне самоучка, но много читал и писал и, несомненно, был интеллигентным человеком. По-видимому, он был отличный организатор, «дела» его шли всегда в порядке, не боялся новых начинаний. Общественник, либерал, настоящий патриот. Его уважали и любили. В другой обстановке из него вышел бы хороший инженер или ученый» (7, стр.24-25) В 1884 году Иван Вавилов женился на дочери художника-гравера мануфактуры Михаила Асоновича Постникова Александре. Жениху был 21 год, невесте – 16. Александра окончила начальную школу и училась рисованию у своего отца. Иван Ильич, как правило, не вмешивался в домашние дела. Александра Михайловна отличалась большой работоспособностью. Она ежедневно вставала не позже 5 часов утра и все делала сама, пока муж и дети спали, без посторонней помощи, хотя Вавиловы и держали прислугу, спать ложилась последней. Вспоминая о матери, Сергей Иванович Вавилов писал: «Мать, замечательная, редкостная по нравственной высоте. окончила только начальную школу, и весь смысл жития ее была семья. Собственных интересов у нее не было никогда, всегда жила для других. Мать любил я всегда глубоко и, помню, мальчиком с ужасом представлял себе, а вдруг мама умрет, это казалось равносильным концу мира. Мало таких женщин видел я на свете». (7, стр.25) В октябре 1918г Иван Ильич Вавилов, невзирая на уговоры членов семьи, оставил Москву и выехал за границу в надежде продолжать там свои коммерческие дела. Они у него шли далеко не блестяще, и он был не прочь вернуться на родину, но никак не решался этого сделать. Начиная с 1921г Иван Ильич, по-видимому, несколько раз встречался со старшим сыном Николаем в Берлине. Одна из встреч состоялась в 1922 г., Н.И. Вавилов выхлопотал ему разрешение вернуться на Родину. Через 6 лет после этой встречи, в 1928г., Иван Ильич возвратился в Советский Союз через Ленинград, где сильно заболел и умер, так и не доехав до Москвы. Иван Ильич Вавилов Похоронен на Никольском кладбище Александро- Невской лавры в Санкт-Петербурге, а его жена, Александра Михайловна, умерла в 1938г. в Москве, похоронена на Ваганьковском кладбище. У Вавиловых родились 7 детей, из которых в живых остались четверо: Александра, Николай, Сергей и Лидия. Дети выросли, получили высшее образование, и каждый из них обнаружил незаурядные способности в своей области знаний. Александра стала врачом, организовала в Москве ряд санитарно- бактериологических лабораторий. Лидия стала микробиологом, но, к несчастью, рано умерла, заразившись черной оспой от больных, которых лечила во время вспыхнувшей эпидемии в Воронеже. Сергей стал выдающимся ученым-физиком, президентом Академии наук СССР, умер 25 января 1951 г. Жили Вавиловы на Пресне. Пресня (с 1918 года – Красная Пресня) – исторический район на западе Москвы, ограниченный на западе и северо-западе линией железной дороги белорусского направления, на юге – рекой Москвой, на востоке – Садовым кольцом. Переименован в память героической борьбы рабочих района в Революцию 1905-1907 годов. Назван от одноименной реки. В 17 век на территории Пресни находились Садовничья дворцовая (с 1681 года Патриаршая) и Псаренная слободы (сохранилась церковь Иоанна Предтечи, 1693-1823 года), села Воскресенское и Кудрино, на месте современного зоопарка – царский зверинец. Застроена Пресня была в основном дачами московских бояр. В начале 18 века возникла Грузинская слобода. В 1842 году через Пресню прошел Камер-коллежский вал; во время эпидемии 1771 года открыто Ваганьковское кладбище, около него в конце 18 века армянское кладбище. Пресня стала заселяться промышленниками, мелкими чиновниками, отставными военными, но были и усадьбы знаменитых старинных фамилий. Так, в 18 веке близ современной Краснопресненской набережной находилась усадьба князей Гагариных с парком и системой прудов, разработанной Уваровым, в начале 19 века – дача (усадьба) Студенец (ныне ПКиО). Патриаршие пруды были излюбленным местом гуляния москвичей; по праздникам на них собиралась вся Москва, на улицах Пресни слышался веселый шум разнородной толпы. С конца 18 века Пресня стала промышленным районом. В 1799 году в урочище «Три горы» была основана Прохоровская мануфактура, в 19, начале 20 веков построен ряд предприятий и кустарных мастерских. Первые социал-демократические организации возникли в 1894-1895 годах. Главными центрами рабочего движения стали Прохоровская мануфактура, мебельная фабрика Н.П. Шмита (ныне на ее территории располагается Детский парк), Александровские мастерские Брестской железной дороги, Даниловский сахарный завод (ныне краснопресненский сахарорафинадный завод) и др. Трудящиеся Пресни активно участвовали в Декабрьском вооруженном восстании 1905 года и обороне Пресни. В начале 1917 года ее территория вошла в состав пресненского района. Во время Октябрьских боев 1917 года был создан районный ВРК (председатель Н.Т. Меркулов), красногвардейцы Пресни участвовали в боях на Кудринской площади (ныне площадь Восстания) и в центре Москвы. В 1924 году в бывшем помещении ВРК и РК РСДРП(б) был открыт музей «Красная Пресня», установлена соответствующая мемориальная доска. На предприятиях района неоднократно выступал В.И. Ленин. В 20-х годах началась реконструкция района, на Звенигородском шоссе построен Городок 1905 года и поселок Тестово. В июле 1941 года в помещении школы № 95 находился штаб Восьмой дивизии народного ополчения Краснопресненского района; сейчас там установлена мемориальная доска. В 70-х годах на площади Краснопресненской заставы построен комбинат издательства «Московская правда», на Краснопресненской набережной – Центр международной торговли и выставок. В память боев 1905 года установлено: обелиск (1920 год), и мемориал «Булыжник – оружие пролетариата» в сквере им 1905 года на Трехгорном валу, обелиск на улице Дружинниковской (1920 год) и многочисленные мемориальные доски. О детстве Николай Иванович в письме к своей невесте вспоминал: «было немало плохого в детстве, юношестве. Семья, как обычно в торговой среде, жила несогласно, было тяжело иногда до крайности. Но все это прошло так давно.» (16, стр. 11) Николай рос здоровым, изобретательным мальчиком. Они с братом Сергеем, который был младше его на четыре года, много времени проводили на улицах Пресни, водили дружбу с мальчишками из рабочих семей. Уважения заслуживал тот, кто умел постоять за себя. Николай умел: и за себя, и за маленького брата. Сергей Иванович вспоминал: «С братом Колей жили дружно, но он был значительно старше и другого характера, чем я: смелый, решительный, «драчун», постоянно встревавший в уличные драки. С ранних лет он с удовольствием прислуживал в церкви Николы Ваганькова. Но это была «общественная» работа, а вовсе не религиозность. Николай рано стал и атеистом, и материалистом». (7, стр.28) Дети у Вавиловых, в отличие от многих других купеческих семей, воспитывались без излишней сентиментальности, на высоких нравственных основах: скромности, строгом отношении к себе, сдержанности, уважении к труду и резко отрицательном отношении ко всему наигранному, показному. Здесь и в отношении друг к другу были предельно сдержанными и лаконичными. Простота и строгость наблюдались во всем. По воспоминаниям знакомых, в детской половине дома Вавиловых бросалось в глаза обилие книг. Позднее, в рабочей обстановке или во время путешествий Н.И. Вавилова трудно было увидеть без какой-либо книги, статьи или рукописи. При этом он не просто просматривал книги, а в большинстве случаев внимательно читал с карандашом в руке, часто делая пометки на полях. В семье детям предоставлялась значительная свобода, не было постоянной опеки. Не раз в сарае слышался взрыв – это братья Коля и Сережа проводили химические опыты; в разных местах встречались листья будущего гербария; мальчикам можно было до глубокой ночи читать интересные книги. Родители, люди глубоко религиозные, не читали нравоучений, видя равнодушие детей к Богу. Среднее образование Николай получил в Московском коммерческом училище, куда его определил отец, надеясь, по-видимому, что со временем старший сын станет его студентом. Это учебное заведение было одним из лучших для своего времени в Москве. В нем основательно преподавали ботанику, зоологию, минералогию, анатомию, физиологию, химию, физику, современные языки: английский, французский, немецкий, а также немало ненужных будущему естествоиспытателю предметов: бухгалтерский счет, товароведение, законоведение и др. Преподавали профессора университетов и вузов, которые видели задачу обучения в том, чтобы «дать обществу личность, творческое «я». Среди них были известные профессора С.Ф. Нагибин, Я.Я. Никитинский, А.Н. Реформатский и др. «Все попытки Ивана Ильича как-то повлиять на выбор старшего сына не увенчались успехом. По этому поводу Вавилов рассказывал друзьям, что однажды отец, желая уговорить сына, пригласил бывшего магистранта истории домой, и тот целую неделю читал специально для него лекции о «почтенности и необходимости для общества» коммерции и промышленности». (16, стр. 6) В годы учебы в коммерческом училище Николай Вавилов не довольствовался одними лишь уроками, а пытался самостоятельно ставить некоторые опыты по химии, физике в самодельной домашней «лаборатории» нередко предпринимались экскурсии за город, сопровождавшиеся сбором гербария и других интересных экспонатов. В 1906 году после успешного окончания училища Николай поступает в Московский сельскохозяйственный институт (ныне Тимирязевская академия), так как коммерческое училище не давало возможности поступления в университет. Об этом решающем выборе высшего учебного заведения, в значительной степени определившем дальнейшую судьбу Н.И. Вавилова, он сам написал следующее: «В 1905-1906 гг. пишущему эти строки, кончавшему в то время среднюю школу, пришлось решать куда идти. Медицина, естествознание, агрономия – к ним влекло больше всего. В 1905-1906гг. в Московском политехническом музее шли замечательные курсы лекций, посещаемы нашими учителями, а по их совету и нами. Морозов, Муромцев, Хвостов, Реформатский, Вагнер, Кулагин, Худяков – один сменял другого. Из них особенно ярки были выступления Н.Н. Худякова. Задачи науки, ее цели, ее содержание редко выражались с таким блеском. Афоризмы Н.Н. Худякова врезывались в память. Основы бактериологии, физиологии растений превращались в философию бытия. Блестящие опыты дополняли чары слов. И стар и млад заслушивались этими лекциями. Горячую пропаганду за Петровскую академию [так называли Московский сельскохозяйственный институт – прим. автора] вели Я.Я. Никитинский-старший, С.Ф. Нагибин – наши учителя в средней школе. Лекции Н.Н. Худякова, незабываемая первая ботаническая экскурсия с ними в Разумовское, агитация Я.Я. Никитинского решили выбор». (7, стр. 29-30) «Петровская земледельческая и лесная академия была официально открыта 21 ноября (3 ноября) 19765 года в селе Петровско-Разумовское под Москвой. Организатором и первым директором ее был Н.И. Железнов. В 1889 г. лесное отделение академии было закрыто, поэтому она стала называться в дальнейшем Петровской сельскохозяйственной академией (ПСХА). В 1890 г, в связи с введением нового явно реакционного устава академии возникло бурное движение протеста преподавателей и студентов, которое было подавлено строгими репрессивными мерами, включая закрытие этого высшего учебного заведения. Только через 4 года, в 1894 г., вместо ПСХА открывается Московский сельскохозяйственный институт. В 1917 г. институту возвращено его прежнее название Петровская сельскохозяйственная академия, а с декабря 1923г. она стала называться Петровской сельскохозяйственной академией имени К.А. Тимирязева». (5, стр.137) Вавилов был освобожден от военной службы из-за дефекта зрения (в детстве он повредил глаз) и поэтому участия в военных действиях не принимал. В институте следует отметить должность, которую занимал Вавилов, как руководитель студенческого кружка любителей естествознания, основанного им же, где студенты сами выступали с разработанными ими темами, в основном мировоззренческой направленности. С группой членов этого кружка он и провел свои первые географические исследования Северного Кавказа и Закавказья. Для становления Вавилова как исследователя, экспериментатора чрезвычайно важны были занятия физиологией растений под руководством Д.Н. Прянишникова. Еще в институте Николай выполнил первую научную работу – «Полевые слизни, вредители полей и огородов». Опубликованная в 1910 году, она была удостоена премии имени А.П. Богданова. Постоянная занятость Вавилова (к примеру, на XII съезде естествоиспытателей в 1909 году он одновременно участвовал в работе нескольких секций – химии, ботаники, агрономии и географии, этнографии и энтомологии) определила такие его черты, как сосредоточенность на научной деятельности и рассеянность в бытовых ситуациях. Николаю Ивановичу была свойственна рассеянность во всем, что не имело отношения к науке. Он постоянно возил с собой несколько чемоданов книг и растений, всегда знал, где находится нужная ему книга. Зато подчас забывал деньги, а однажды чуть было не попал под автомобиль, занятый своими мыслями.Часть 2
Педагогическая и научно-исследовательская деятельность Н.И. Вавилова Мы – педагоги, преподаватели ради любви к делу. Ибо каждый из нас видит смысл жизни в том, чтобы сделать побольше, проложить тропу поглубже, и то, что мы сделали, накопили, передать стране, которой мы преданы. Н.И.Вавилов, из речи в ВИРе 15 марта 1939 года (14, стр. 57) По окончании института целеустремленного, незаурядного студента выбрали для продолжения образования и подготовки к профессорской деятельности. Несколько позже он был прикомандирован к селекционной станции биолога Д.Л. Рудзинского. Интереснейшие исследования по иммунитету растений происходили сначала в Петербурге, в Бюро по микологии и фитопатологии (днем многочасовое изучение обширных коллекций, вечерами и ночами – занятия с литературой), а летом – черновая работа на полях, от посева до сбора семян, просмотр сотен сосудов и тысяч делянок с их описанием и размышлением над выводами. Уже в 1911 году Вавилову поручают вести занятия со студентами Высших Голицинских сельскохозяйственных курсов. Он впервые вводит элементы генетики и делает занятия столь интересными, что увлекает за собой молодежь, будит в ней любознательность и подлинный интерес к науке. В 1912 году директор Голицинских курсов, Д. Н. Прянишников, предлагает Вавилову выступить с актовой речью. Не без волнения Вавилов произносит речь под названием "Генетика и ее отношение к агрохимии", которая была издана отдельной брошюрой. В этой речи он убедительно показывает практическое значение генетики. Без генетики селекция была еще несовершенна, гибридизация и искусственный отбор еще применялись в значительной степени в слепую, без обоснования законами наследственности и изменчивости. Но он говорит не только о селекции. Его интересуют вопросы происхождения и эволюции культурных растений - тема, которая станет одной из главных в его дальнейших исследованиях. Большое значение для научной биографии Вавилова имела командировка "для завершения образования" в Англию в 1913 году, к самому Уильяму Бэтсону - одному из создателей генетики. "Основные камни огромного значения, размеры которого мы еще не в состоянии охватить, заложены Бэтсоном", - напишет Вавилов в 1926 году.(13, стр.46) Вавилов считает Бэтсона крупнейшим биологом, личность которого "поражала своей универсальностью, энциклопедичностью". Но таков был и сам Вавилов, ученый - энциклопедист, одинаково интересовавшийся как сугубо прикладными вопросами сельскохозяйственной науки, так и величайшими проблемами эволюционной биологии. Это были во многом родственные души. Их объединяла универсальная широта интересов, как в науке, так и искусстве, умение сочетать науку с жизнью, терпимость в критике. Оба они были апостолами свободы науки и верили в то, что она делает мир лучше. В 1914 году Вавилов переезжает из Англии во Францию, где его заинтересовала крупнейшая семеноводческая фирма Вильморенов. Будучи скорее коммерческим предприятием, она также вела большую селекционную и семеноводческую работу и, в частности, исследовала хлебопекарные качества пшеницы. Из Франции Вавилов отправляется в Германию, работать у знаменитого биолога - эволюциониста Эрнста Геккеля. Здесь его застает начавшаяся мировая война, и он не без труда добирается до России, лишившись части багажа с ценными книгами. По возвращении из заграничной командировки, Вавилов в 1914 году был избран преподавателем Голицинских курсов и одновременно вел летние курсы по частному земледелию в Петроградской сельскохозяйственной академии. Но преподавательская деятельность в Москве не дает ему полного удовлетворения и почти не оставляет времени для научной работы. Вавиловым изучен иммунитет 650 сортов пшеницы, 350 сортов овса, бобовых, огородных культур, льна; в 1919 году результаты исследований опубликованы в монографии «Иммунитет растений к инфекционным заболеваниям». Эти исследования дают материал для осознания одного из ведущих законов в науке – закона гомологических рядов наследственной изменчивости. Одновременно он слушает лекции Валерия Брюсова о древнейших культурах человечества. С 1917 года Вавилов работает
на кафедре генетики, селекции и частного земледелия Саратовских высших
сельскохозяйственных курсов. Организует широкое полевое изучение сортов
различных сельскохозяйственных растений, в основном хлебных злаков; работа
сопровождается генетическими исследованиями.
С 1917 года Вавилов работает
на кафедре генетики, селекции и частного земледелия Саратовских высших
сельскохозяйственных курсов. Организует широкое полевое изучение сортов
различных сельскохозяйственных растений, в основном хлебных злаков; работа
сопровождается генетическими исследованиями.
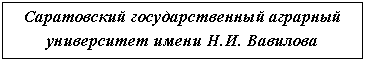 Известие об Октябрьской революции, казалось бы, не внесло ничего нового в жизнь
Н.И. Вавилова. Он по-прежнему преподавал на курсах, получил звание профессора,
руководил кафедрой частного земледелия и генетики. На его лекциях всегда было
много слушателей, причем не только студентов, но и преподавателей смежных
кафедр, сотрудников селекционной станции, университета, членов Географического
общества. Н.И. Вавилова нельзя было назвать блестящим оратором, он часто
перескакивал с предмета на предмет, не легко было уследить за его мыслью. Но
некоторые недостатки перекрывались главным – его увлеченностью наукой. Его
собственный интерес к тому, что он рассказывал, был столь велик, что
передавался и слушателям.
Летом он пропадал на селекционной станции. В невероятно трудных условиях,
связанных с последствиями Первой мировой войны, Гражданской войной,
интервенцией и разрухой, под его руководством были засеяны 12 тысяч делянок,
а в последующие годы еще больше.
В саратовский период, хотя он и был коротким, взошла звезда Н. И. Вавилова -
ученого. Там он отобрал коллектив молодых последователей его идей, студентов
университета, и вместе с ними произвел экспедиционное обследование полевых
культур Юго - Востока европейской части России. Результатом экспедиции
явилось опубликование первой советской региональной монографии по видовому и
сортовому составу полевых возделываемых растений. Книга называлась "Полевые
культуры Юго - Востока". Издать ее удалось лишь в 1922 году.
В 1918 году Вавилов наступает с инициативой организации в Саратове филиала
отдела прикладной ботаники. Несмотря на понятные для тех лет исключительные
трудности, Вавилов не только продолжает начатые исследования, но и непрерывно
расширяет масштабы работ по прикладной ботанике. Прежде всего, он продолжает
опыты, начатые в Петровской сельскохозяйственной академии. Это, по его
собственным словам, "иммунитет, гибриды и некоторые ботанико-географические
работы". Вавилова, конечно же, особенно интересует проблемы иммунитета,
особенно иммунитета пшеницы. В течение многих веков болезни пшеницы были
одной из самых важных помех хорошего урожая.
Осенью 1918 года Вавилов закончил свою работу по иммунитету растений к
инфекционным заболеваниям, и в начале 1919 года по инициативе Д. Н.
Прянишникова она публикуется в "Известиях Петровской сельскохозяйственной
академии". Статья выходит с надписью: "посвящаю памяти великого исследователя
иммунитета И. И. Мечникова". Проблема иммунитета волнует Вавилова в течение
всей жизни.
Следует вернуться к развитию биологической науки на стыке веков. Были заново
открыты законы ученого монаха из Брно Грегори Менделя. Это были законы
генетики – учения о наследственности и изменчивости, сформулированные и
дополненные: Гугу де Фризом, Карлом Корренсом и Эриком Чермаком. Генетика
стала главной опорой в учении и практике Николая Вавилова.
Второй опорой стало эволюционное учение Чарльза Дарвина, изложенное в труде
«Происхождение видов». Третей - сочинение Женевского ботаника Альфонса Декан
доля «Рациональная география растений» - основа новой науки биогеографии. А
четвертой - сочинение шведского натуралиста Карла Линнея «Виды растений».
В русле этих четырех направлений и развивались поиски и находки молодого
Вавилова. Классификация растительного мира планеты с помощью Вавилова
расширилась примерно вчетверо.
21 марта 1920 года Вавилов был избран зав отделом Сельхозучкома в Петрограде,
еще работая в Саратове. Здесь он организовал ряд экспедиций на юго-восток
России.
1920 год, год 33-летия, был для Николая Ивановича знаменательным в научной
деятельности. Уже к 1917году у Н.И. Вавилова сложилась идея единства
многообразия. Обращал внимание на повторяемость признаков и находил новые
формы у растений А.И. Мальцев, английский ученый Пеннет – открытие закона
гомологических рядов давно назрело в ходе развития науки, но только Вавилов
сумел его сформулировать. Вероятно, в силу энциклопедичности своего
образования, широкого круга научных интересов, а возможно, благодаря своей
романтической, увлекающейся натуре, способности к смелым, интуитивным
догадкам.
Известие об Октябрьской революции, казалось бы, не внесло ничего нового в жизнь
Н.И. Вавилова. Он по-прежнему преподавал на курсах, получил звание профессора,
руководил кафедрой частного земледелия и генетики. На его лекциях всегда было
много слушателей, причем не только студентов, но и преподавателей смежных
кафедр, сотрудников селекционной станции, университета, членов Географического
общества. Н.И. Вавилова нельзя было назвать блестящим оратором, он часто
перескакивал с предмета на предмет, не легко было уследить за его мыслью. Но
некоторые недостатки перекрывались главным – его увлеченностью наукой. Его
собственный интерес к тому, что он рассказывал, был столь велик, что
передавался и слушателям.
Летом он пропадал на селекционной станции. В невероятно трудных условиях,
связанных с последствиями Первой мировой войны, Гражданской войной,
интервенцией и разрухой, под его руководством были засеяны 12 тысяч делянок,
а в последующие годы еще больше.
В саратовский период, хотя он и был коротким, взошла звезда Н. И. Вавилова -
ученого. Там он отобрал коллектив молодых последователей его идей, студентов
университета, и вместе с ними произвел экспедиционное обследование полевых
культур Юго - Востока европейской части России. Результатом экспедиции
явилось опубликование первой советской региональной монографии по видовому и
сортовому составу полевых возделываемых растений. Книга называлась "Полевые
культуры Юго - Востока". Издать ее удалось лишь в 1922 году.
В 1918 году Вавилов наступает с инициативой организации в Саратове филиала
отдела прикладной ботаники. Несмотря на понятные для тех лет исключительные
трудности, Вавилов не только продолжает начатые исследования, но и непрерывно
расширяет масштабы работ по прикладной ботанике. Прежде всего, он продолжает
опыты, начатые в Петровской сельскохозяйственной академии. Это, по его
собственным словам, "иммунитет, гибриды и некоторые ботанико-географические
работы". Вавилова, конечно же, особенно интересует проблемы иммунитета,
особенно иммунитета пшеницы. В течение многих веков болезни пшеницы были
одной из самых важных помех хорошего урожая.
Осенью 1918 года Вавилов закончил свою работу по иммунитету растений к
инфекционным заболеваниям, и в начале 1919 года по инициативе Д. Н.
Прянишникова она публикуется в "Известиях Петровской сельскохозяйственной
академии". Статья выходит с надписью: "посвящаю памяти великого исследователя
иммунитета И. И. Мечникова". Проблема иммунитета волнует Вавилова в течение
всей жизни.
Следует вернуться к развитию биологической науки на стыке веков. Были заново
открыты законы ученого монаха из Брно Грегори Менделя. Это были законы
генетики – учения о наследственности и изменчивости, сформулированные и
дополненные: Гугу де Фризом, Карлом Корренсом и Эриком Чермаком. Генетика
стала главной опорой в учении и практике Николая Вавилова.
Второй опорой стало эволюционное учение Чарльза Дарвина, изложенное в труде
«Происхождение видов». Третей - сочинение Женевского ботаника Альфонса Декан
доля «Рациональная география растений» - основа новой науки биогеографии. А
четвертой - сочинение шведского натуралиста Карла Линнея «Виды растений».
В русле этих четырех направлений и развивались поиски и находки молодого
Вавилова. Классификация растительного мира планеты с помощью Вавилова
расширилась примерно вчетверо.
21 марта 1920 года Вавилов был избран зав отделом Сельхозучкома в Петрограде,
еще работая в Саратове. Здесь он организовал ряд экспедиций на юго-восток
России.
1920 год, год 33-летия, был для Николая Ивановича знаменательным в научной
деятельности. Уже к 1917году у Н.И. Вавилова сложилась идея единства
многообразия. Обращал внимание на повторяемость признаков и находил новые
формы у растений А.И. Мальцев, английский ученый Пеннет – открытие закона
гомологических рядов давно назрело в ходе развития науки, но только Вавилов
сумел его сформулировать. Вероятно, в силу энциклопедичности своего
образования, широкого круга научных интересов, а возможно, благодаря своей
романтической, увлекающейся натуре, способности к смелым, интуитивным
догадкам.
 В июне 1920 года на III
Всероссийском съезде селекционеров, происходившем в Саратове, Вавилов впервые
выступил с «Законом гомологических рядов в наследственной изменчивости».
Демонстрируя таблицы параллельных рядов с пустыми клетками, Вавилов
предсказывал существование еще не открытых или не созданных путем селекции
растений. Аналогия с периодическим законом химических элементов была очевидна,
и, когда по окончании доклада весь зал встал и устроил Вавилову овацию,
профессор В.Р. Заленский крикнул, перекрывая аплодисменты: «Это биологи
приветствуют своего Менделеева!». От имени съезда его участники послали
телеграмму в Москву, в Совнарком, Луначарскому, оценивая теорию Вавилова как
крупнейшее событие в мировой биологической науке, открывающее самые широкие
перспективы для практики.
Со времен Карла Линнея девизом растениеводов было утверждения о том, что
основа ботаники - в разделении и наименовании растений. Ученые открывали все
новые виды, разновидности, сорта – тысячи, миллионы. Открывали и тонули в
безбрежном зеленом океане, в хаосе бесконечного множества форм культурной
флоры. Нужен был синтетический, всеохватный ум, чтобы увидеть за деревьями
лес - найти общее в многообразии, заметить в отдельных образцах собранного по
всему миру растительного материала сравнительные сходства и несходства
(«гомологические» и означает - сходные, подобные, родственные), упорядочить
этот хаос сначала у себя в голове, а затем на бумаге в форме определенных
таблиц, параллельных рядов изменчивости, гомологических рядов.
Формулировка закона:
«Виды и роды, генетически близкие между собой, благодаря сходству их
генотипов, характеризуются тождественными рядами наследственной изменчивости с
такой правильностью, что, зная ряд форм для одного вида, можно предвидеть
нахождение тождественных форм других видов и родов. Чем ближе генетически
расположены в общей системе роды и линнеоны, тем полнее тождество в рядах их
изменчивости. Целые семейства растений в общем характеризуются определенным
циклом изменчивости, проходящей через все роды, составляющие семейство» (8,
стр.237)
Вавилов указывал на необходимость генетического анализа тех признаков,
которые у разных видов и родов проявляют параллельную изменчивость, а в 1935,
когда соответствующие факты были накоплены, сделал заключение: «Исходя из
поразительного сходства в фенотипической изменчивости видов в пределах одного и
того же рода или близких родов, обусловленного единством эволюционного
процесса, можно предполагать наличие у них множества общих генов наряду со
спецификой видов и родов». (9, стр.148) Современные молекулярно-генетические
исследования – сравнение генетических карт различных организмов и анализ
гомологии генов исходя из данных об аминокислотной последовательности генных
продуктов или нуклеотидной последовательности самих генов – выявили
значительное сходство генетических карт в пределах больших систематических
групп (например, в пределах класса млекопитающих) и широкую гомологию отдельных
генов на всем протяжении эволюции организмов. Эти данные полностью подтвердили
и углубили закономерности, которые много лет назад были впервые подмечены
Н.И.Вавиловым.
В 1921 году на Международном конгрессе по сельскому хозяйству в США
выступление Н.И. Вавилова о законе гомологических рядов наследственной
изменчивости также произвело сенсацию. Его портреты печатались в газетах и
сопровождались словами: «Если все русские такие, как Вавилов, нам следует
дружить с Россией». И это в то время, когда США официально еще не признавали
Советскую Россию.
В 1921-1922 годах Николай Иванович посетил в научных целях и лабораторию
Томаса Гента Моргана в Штатах, и биологические агрономические центры Канады,
Англии, Франции, Германии, Швеции и Нидерландов. Вскоре из США приходит
письмо с приглашением двух советских ученых на международный съезд по
болезням хлебных злаков. Было ясно, что должны ехать Н. И. Вавилов и А. А.
Ячевский. Но вопрос о поездке решался не учеными, Вавилову пришлось ехать в
Москву, где он обходит разные учреждения, пишет письма, уговаривает и
доказывает бюрократам и столоначальникам необходимость этой поездки. Но
благодаря энергии и настойчивости Вавилова, ему удается "пробить" эту столь
нужную для страны поездку.
В США Вавилова интересуют исследования культурных растений и успехи в области
селекции. Его, прежде всего, интересуют работы Бюро растениеводства в
Вашингтоне. Не меньший интерес вызывали и успехи американских генетиков,
особенно знаменитого Т. Г. Моргана и его сотрудников, генетические
исследования которых привлекали внимание всего мира.
В 1921году Н.И. Вавилов переехал в Петроград в связи с избранием его
заведующим отделом Прикладной ботаники после смерти Р.Э. Регеля, близкого и
дорогого ему человека.
В некрологе на его безвременную смерть (а ему в жизни пришлось писать много
некрологов) Вавилов писал: «Ряды русских ученых редеют день за днем, и жутко
становится за судьбу отечественной науки, ибо много званных, но мало
избранных». (1, стр. 92)
Н.И. Вавилов с присущей ему энергией взялся за дело: выхлопотал здание
министерства сельского хозяйства на Исаакиевской площади, организовал
перевозку материалов с Васильевского острова, обеспечивал условия для жизни и
работы более чем 60 сотрудникам (часть их приехала из Саратова), ранней
весной начал сев на пригородных полях – и это все в голодном и холодном
Петрограде 1921 года! «Хлопот миллионы. Воюем с холодом в помещении, за
мебель, за квартиры, за продовольствие. Набираюсь терпения и настойчивости.
Что можем, сделаем. Первую лекцию собираюсь читать на тему «Пределы
земледелия и пределы селекции». Холодно и люди пообессилели» (из письма от 18
марта 1921года). (1, стр. 92)
В июне 1920 года на III
Всероссийском съезде селекционеров, происходившем в Саратове, Вавилов впервые
выступил с «Законом гомологических рядов в наследственной изменчивости».
Демонстрируя таблицы параллельных рядов с пустыми клетками, Вавилов
предсказывал существование еще не открытых или не созданных путем селекции
растений. Аналогия с периодическим законом химических элементов была очевидна,
и, когда по окончании доклада весь зал встал и устроил Вавилову овацию,
профессор В.Р. Заленский крикнул, перекрывая аплодисменты: «Это биологи
приветствуют своего Менделеева!». От имени съезда его участники послали
телеграмму в Москву, в Совнарком, Луначарскому, оценивая теорию Вавилова как
крупнейшее событие в мировой биологической науке, открывающее самые широкие
перспективы для практики.
Со времен Карла Линнея девизом растениеводов было утверждения о том, что
основа ботаники - в разделении и наименовании растений. Ученые открывали все
новые виды, разновидности, сорта – тысячи, миллионы. Открывали и тонули в
безбрежном зеленом океане, в хаосе бесконечного множества форм культурной
флоры. Нужен был синтетический, всеохватный ум, чтобы увидеть за деревьями
лес - найти общее в многообразии, заметить в отдельных образцах собранного по
всему миру растительного материала сравнительные сходства и несходства
(«гомологические» и означает - сходные, подобные, родственные), упорядочить
этот хаос сначала у себя в голове, а затем на бумаге в форме определенных
таблиц, параллельных рядов изменчивости, гомологических рядов.
Формулировка закона:
«Виды и роды, генетически близкие между собой, благодаря сходству их
генотипов, характеризуются тождественными рядами наследственной изменчивости с
такой правильностью, что, зная ряд форм для одного вида, можно предвидеть
нахождение тождественных форм других видов и родов. Чем ближе генетически
расположены в общей системе роды и линнеоны, тем полнее тождество в рядах их
изменчивости. Целые семейства растений в общем характеризуются определенным
циклом изменчивости, проходящей через все роды, составляющие семейство» (8,
стр.237)
Вавилов указывал на необходимость генетического анализа тех признаков,
которые у разных видов и родов проявляют параллельную изменчивость, а в 1935,
когда соответствующие факты были накоплены, сделал заключение: «Исходя из
поразительного сходства в фенотипической изменчивости видов в пределах одного и
того же рода или близких родов, обусловленного единством эволюционного
процесса, можно предполагать наличие у них множества общих генов наряду со
спецификой видов и родов». (9, стр.148) Современные молекулярно-генетические
исследования – сравнение генетических карт различных организмов и анализ
гомологии генов исходя из данных об аминокислотной последовательности генных
продуктов или нуклеотидной последовательности самих генов – выявили
значительное сходство генетических карт в пределах больших систематических
групп (например, в пределах класса млекопитающих) и широкую гомологию отдельных
генов на всем протяжении эволюции организмов. Эти данные полностью подтвердили
и углубили закономерности, которые много лет назад были впервые подмечены
Н.И.Вавиловым.
В 1921 году на Международном конгрессе по сельскому хозяйству в США
выступление Н.И. Вавилова о законе гомологических рядов наследственной
изменчивости также произвело сенсацию. Его портреты печатались в газетах и
сопровождались словами: «Если все русские такие, как Вавилов, нам следует
дружить с Россией». И это в то время, когда США официально еще не признавали
Советскую Россию.
В 1921-1922 годах Николай Иванович посетил в научных целях и лабораторию
Томаса Гента Моргана в Штатах, и биологические агрономические центры Канады,
Англии, Франции, Германии, Швеции и Нидерландов. Вскоре из США приходит
письмо с приглашением двух советских ученых на международный съезд по
болезням хлебных злаков. Было ясно, что должны ехать Н. И. Вавилов и А. А.
Ячевский. Но вопрос о поездке решался не учеными, Вавилову пришлось ехать в
Москву, где он обходит разные учреждения, пишет письма, уговаривает и
доказывает бюрократам и столоначальникам необходимость этой поездки. Но
благодаря энергии и настойчивости Вавилова, ему удается "пробить" эту столь
нужную для страны поездку.
В США Вавилова интересуют исследования культурных растений и успехи в области
селекции. Его, прежде всего, интересуют работы Бюро растениеводства в
Вашингтоне. Не меньший интерес вызывали и успехи американских генетиков,
особенно знаменитого Т. Г. Моргана и его сотрудников, генетические
исследования которых привлекали внимание всего мира.
В 1921году Н.И. Вавилов переехал в Петроград в связи с избранием его
заведующим отделом Прикладной ботаники после смерти Р.Э. Регеля, близкого и
дорогого ему человека.
В некрологе на его безвременную смерть (а ему в жизни пришлось писать много
некрологов) Вавилов писал: «Ряды русских ученых редеют день за днем, и жутко
становится за судьбу отечественной науки, ибо много званных, но мало
избранных». (1, стр. 92)
Н.И. Вавилов с присущей ему энергией взялся за дело: выхлопотал здание
министерства сельского хозяйства на Исаакиевской площади, организовал
перевозку материалов с Васильевского острова, обеспечивал условия для жизни и
работы более чем 60 сотрудникам (часть их приехала из Саратова), ранней
весной начал сев на пригородных полях – и это все в голодном и холодном
Петрограде 1921 года! «Хлопот миллионы. Воюем с холодом в помещении, за
мебель, за квартиры, за продовольствие. Набираюсь терпения и настойчивости.
Что можем, сделаем. Первую лекцию собираюсь читать на тему «Пределы
земледелия и пределы селекции». Холодно и люди пообессилели» (из письма от 18
марта 1921года). (1, стр. 92)

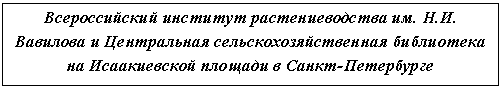 Трудности продолжались не один год. В письме в Отдел Наркомзема в мае 1922
года Вавилов писал: «Положение работы нашей никогда не было столь тягостным и
неопределенным. Мы совершенно не получаем средств ни для содержания служащих,
ни для операционных расходов. Для поддержания в течение весеннего времени
работ пришлось продать часть инвентаря и семян, имевшихся в нашем
распоряжении. Не смотря на полную готовность всех служащих потерпеть,
довольствоваться самым ничтожным, создается совершенно невозможное положение.
Пайки приходят с опозданием на целый месяц, и, как Вы сами прекрасно знаете,
они, кроме того, не настолько существенны, чтобы на них можно было
существовать. Жалование служащие не получают 2 месяца. Положение
катастрофическое. У станции нет ни достаточного живого инвентаря, ни средств
для производства работы путем найма лошадей рабочих». (1, стр. 92)
Тем не менее, на всех опытных станциях вплоть до Туркестанского отделения
были произведены посевы, из-за границы получено до 7000 книг, тысячи образцов
семян – ученые продолжали обмениваться научным материалом.
Н.И. Вавилов сам посещал многие станции, на месте намечал план дальнейших
научных работ.
В 1922 году произошло важное событие. Отделы бывшего Сельскохозяйственного
ученого комитета были объединены в Государственный институт опытной
агрономии, директором которого согласился стать Вавилов. 1-го декабря 1923
года Вавилов избирается членом - корреспондентом Академии наук СССР. А в 1924
году Отдел прикладной ботаники и селекции превращается во Всесоюзный институт
прикладной ботаники и новых культур. И перед Вавиловым открываются новые
более широкие возможности. Теперь он может начать организацию экспедиций в
очаги происхождения культурных растений.
Число пунктов географических посевов выросло до 115. около двухсот одних и
тех же сортов разных растений высевалось на станциях; ботаники, биологи,
биохимики проделали несколько миллионов измерений и вычислений, чтобы уловить
закономерности в поведении одних и тех же сортов, попадающих в разные условия
географической среды.
Выяснилось, что с продвижением на восток, в засушливые черноземные области,
содержание белка у пшениц резко возрастает, а у бобовых практически не
изменяется. Некоторые культуры ускоряют свой рост и развитие с продвижением
на север, так как длиннее становится световой день. Значит, идея Н.И.
Вавилова о продвижении земледелия на север не только реально осуществима, но
и подтверждает историческое развитие земледельческой культуры,
распространение ее из наиболее благоприятных субтропических широт на север.
В основе работ довоенного ВИРА лежат фундаментальные труды Вавилова «Закон
гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Центра происхождения
культурных растений», «Географические закономерности в распределении генов
культурных растений».
Работа Н.И. Вавилова и его сотрудников стала основой реализации планов
молодого социалистического государства по обновлению сельского хозяйства.
Голод в Поволжье, планы развития всей советской экономики, декрет о создании
в стране сети селекционных станций побуждали к развитию отечественной
селекции.
В стиле молодого советского государства звучат слова Н.И. Вавилова: «Селекция
представляет собой эволюцию, направляемую волей человека».
«Если ты встал на путь ученого, то помни, что облек себя на вечные искания
нового, на беспокойную жизнь до гробовой доски. У каждого ученого должен быть
мощный ген беспокойства. Он должен быть одержимым» – эти слова Вавилова
буквально соответствуют жизни их автора. (1, стр. 93)
Пустые клетки таблицы гомологических рядов побуждали к поиску новых видов и
родов растений. Н.И. Вавилов понимал: поиск нужно начинать не с дальних
экспедиций, а у себя в кабинете. Не раз сотрудники заставали Вавилова лежащим
на полу на большой географической карте – он намечал маршруты будущих
экспедиций. Надо было найти центры происхождения культурных растений, там
должно было быть максимальное их разнообразие. Центр сосредоточения форм
должен быть центром происхождения культурного вида. Здесь он образовался как
вид, здесь был введен в культуру и отсюда вместе с человеком постепенно
расселялся по Земле. Казалось бы, очень простая мысль. Но от первых догадок о
происхождении культурной ржи в 1916 году до опубликования книги о центрах
происхождения культурных растений прошло 10 лет. Ведь только перечисление
культур, которые исследовал Н.И. Вавилов, заняло бы несколько страниц. Надо
было увидеть тысячелетнюю картину эволюции многих сотен видов во времени и
пространстве!
Вавилов заметил, что для многих культур центры совпадают. «Культура поля идет
всегда рука об руку с культурой человека». Первобытный земледелец, начав
возделывать какое-то одно растение, скоро стал вводить в культуру и другие
растения, растущие рядом. Постепенно земледелие стало его основным занятием,
и так образовалась первобытная земледельческая культура.
В 1926 году Вавилов выделил пять основных очагов происхождения культурных
растений: горные районы Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, Средиземноморье,
горная Абиссиния, Южная и Центральная Америка. Впоследствии границы центров
уточнялись, появилось разделение на первичные и вторичные очаги. В ряде работ
отмечено восемь, в более поздних – семь основных центров многообразия
происхождения культурных растений – результат многих экспедиций по пяти
континентам земного шара. За эту работу Вавилову присуждена высшая в то время
награда – премия имени В.И. Ленина, которую он потратил на экспедицию в
Средиземноморье.
Его первая экспедиция состоялась по инициативе военного ведомства в - Иран и
на Памир (май-октябрь 1916года) с целью выяснения причин массового отравления
хлебом в русских войсках. Это дало ему возможность начать изучение очагов
происхождения и разнообразия важнейших хлебных знаков и других культурных
растений, составившее основу всей его последующей деятельности. В том же году
он проделал сложнейший маршрут из Ферганы на Памир. Уже в этом путешествии
были обнаружены оригинальные формы безлигульных хлебных злаков,
способствовавшие открытию закона гомологических рядов, и получены ценные
данные о происхождении культурной ржи. Вавилов мечтал найти родину персидской
пшеницы, и хотя этой пшеницы он там не нашел, была собрана богатая коллекция
– более пятидесяти разновидностей пшеницы, причем концентрация разновидностей
увеличивалась по мере приближения к древнему очагу земледельческой культуры.
После пятидесятиградусной жары в Иране – непроходимые ледники Памира,
переправа по расшатанным обледенелым мосткам над грохочущими горными реками,
узкие обваливающиеся под шагами тропы над пропастью.
В годы преподавания в Саратове Н. И. Вавилов организовал изучение юго-
восточных губерний Европейской России (Астраханской, Царицынской, Самарской и
Саратовской), послужившее основой для опубликования в 1922 году книги
"Полевые культуры Юго-востока".
1921-1922гг – поездка в США и страны Западной Европы, во время которой были
обследованы обширные зерновые районы США и Канады. 1924 год (июль-декабрь) –
экспедиция в Афганистан по основным земледельческим районам. Отчет об
экспедиции – более пятисот страниц текста, масса фотографий, рисунков, карты
и описания маршрутов общей протяженностью более пяти тысяч километров,
сведения о численности населения, особенностях их быта – позволил дать не
только детальную характеристику разнообразия культурных растений и
особенностей хозяйства страны, но и экономико-географическое и
этнографическое описание. И весь этот труд был осуществлен за полгода лишь
тремя исследователями – Н.И. Вавиловым, Д.Д. Букеничем и В.И. Лебедевым, и
основная часть – Николаем Ивановичем.
Было собрано семь тысяч образцов семян, колосьев культурных растений, около
тысячи листов гербария. За эту экспедицию Географическое общество СССР
присудило Н.И. Вавилову высшую награду – золотую медаль имени Н.М.
Пржевальского.
В этой экспедиции Николай Иванович был представителем страны, с которой
недавно были установлены дипломатические отношения. Ночевки в караван-сараях,
рядом с лошадьми, укусы больших черных вшей. По дороге – сотни больных,
которые обращались за помощью к доктору (азиаты любого европейца в те времена
считали врачом).
Неподалеку от Кабула Н.И. Вавилов получил сообщение о восстании племени,
направляющегося в Кабул под религиозными лозунгами борьбы с неверными.
Европейцы покидали Кабул. Вавилов же, наоборот, устремился в Кабул, опасный
город. С огромным уважением пишет Вавилов в книге «Пять континентов» о труде
земледельцев.
Д.С. Лихачев в отзыве о книге «Пять материков» отмечал, что в ней открывается
одна очень светлая грань личности Н.И. Вавилова: огромный и искренний интерес
к людям в любой точке планеты, к их жизни, болям, тревогам. У него
поразительные характеристики людей. Сквозь строки просвечивает его
неразрывная связь с окружающим обществом, связь через интерес к живым,
конкретным людям. Для Н.И. Вавилова характерен не только широкий, страстный
интерес к своей области науки, но и глубочайший интерес к людям,
снисходительность к их странностям и слабостям, сочувствие к людям,
искренность, порядочность и честность, этическая чистота. Хочется подчеркнуть
также глубокое уважение к обычаям, культуре разных народов и тонкое
эстетическое восприятие действительности.
Путешествуя по разным странам, нельзя не обращать внимания на политику и
экономику. В записях Н.И. Вавилова есть ряд заметок, отражающих политические
события. Так, в главе «Палестина и Транс-Иордания» он отмечает: «Нельзя
пройти мимо национальных аномалий, мимо той розни, которая чаще всего
искусственно культивируется в этой стране» (6, стр. 170). Сочувствуя борьбе
испанского народа против фашизма, он писал: «Испанские события затрагивают
весь земной шар: в них как в фокусе сосредоточена борьба двух миров» (6, стр.
145). Книге Н.И. Вавилова «Пять континентов» предшествует такое предисловие
автора: «Географическая литература обширна, но каждый из нас видит разное в
зависимости от того, через какой фильтр проходят факты, куда стремится
исследователь. Естественным желанием автора было дать возможность читателю
пробежать с ним огромные территории наиболее замечательных районов Земли, где
зарождалась, творилась и творится великая земледельческая культура» (6, стр.
5).
Как жаль, что эта книга осталась незаконченной! Не все произведения Н.И.
Вавилова пока найдены и изданы, и наш долг – обнародовать все наследие
Николая Ивановича.
В 1925 г. экспедиции в Хивинский оазис и другие сельскохозяйственные районы
Узбекистана.
В 1926 - 1927 годах Н. И. Вавилов совершил путешествие по странам
Средиземноморья - Алжиру, Тунису, Марокко, Ливану, Сирии, Палестине,
Трансиорданиии, Греции, Италии, островам Сицилия, Сардиния, Крит, Кипр, Южной
Франции, Испании, Португалии. По Суэцкому каналу и Красному морю, он приплыл
во Французское Сомали, а оттуда - в Эфиопию (Абиссинию) и Эритрею. И в этой
экспедиции караванные и пешие маршруты составили около 2 тыс. км. Семенной
материал, собранный Николаем Ивановичем, исчислялся многими сотнями посылок,
тысячами образцов. На обратном пути на Родину (1927 г.) Вавилов ознакомился с
земледелием в горных районах Вюртемберга (Германия), принял участие в
Международном генетическом конгрессе в Берлине, выступив с докладом "О
мировых географических центрах генов культурных растений".
В 1929 году он вместе с ботаником М. Г. Поповым совершил путешествие в
северо-западную часть Китая - Синьцзян, а потом уже в одиночку, в Японию, на
остров Тайвань и в Корею. Цель его - изучение особенностей сельского
хозяйства.
В 1930 году Н. И. Вавилов совершает экспедицию в Мексику и ряд стран
Центральной Америки. Он объезжает все южные штаты США от Калифорнии до
Флориды, пересекает двумя маршрутами горные и равнинные районы Мексики,
Гватемалу.
В 1931 году Н. И. Вавилов побывал в Дании и Швеции.
В 1932 - 1933 годах, после VI Международного генетического конгресса в Итаке
(США), на котором Н. И. Вавилов был избран вице-президентом, он объехал ряд
провинций Канады и затем совершил обследование земледельческих районов
большинства стран Центральной и Южной Америки: Сальвадора, Коста-Рики,
Никарагуа, Панамы, Перу, Боливии, Чили, Аргентины, Уругвая, Бразилии,
Тринидада, Кубы, Пуэрто-Рико. И в этом путешествии удивляет интенсивность
работы Николая Ивановича - знакомство с научными учреждениями, ботаническими
садами, рынками, фермами, сбор семян и плодов, сельскохозяйственных культур и
других полезных растений, лекции и доклады, интервью журналистам, поиск,
приобретение и пересылка научной литературы.
В 1934 - 1939 гг. ежегодными экспедициями были охвачены все земледельческие
районы Кавказа и Закавказья, а в 1940г. Н. И. Вавилов возглавил большую
комплексную экспедицию по западным областям Белоруссии и Украины.
В итоге с 1923 по 1940 г. Вавиловым и другими сотрудниками ВИРа было
совершено 180 экспедиций, из них 40 - в 65 зарубежных стран. Мировая
коллекция института к 1940 г. состояла из 250 тыс. образцов, из них 36 тыс.
образцов пшеницы, 10 тыс. - кукурузы, 23 тыс. - кормовых и т.д.
К сожалению, нет возможности даже «пробежать» с Н.И. Вавиловым все его
маршруты, услышать его комментарии к увиденному, еще и еще раз удивиться тому
бесстрашию, с которым Н.И. Вавилов преодолевал самые опасные переправы,
перевалы, собирал научный материал в районах военных действий. Лично меня при
чтении произведений Г. Голубева и Г. Бальдыша, носящих отчасти художественный
характер, в особенности глав, описывающих экспедиции Вавилова, не покидало
ощущение, что я держу в руках приключенческий роман. К сожалению, объем
работы не позволяет в полной мере пересказать богатое и интересное содержание
путешествий ученого. Достаточно взглянуть на сам перечень территорий, по
которым проходили маршруты его экспедиций (см. приложение № 1).
Что характерно для экспедиций Н. И. Вавилова и его сотрудников? Во-первых,
четкая целенаправленность. Главная задача всех экспедиций Отдела прикладной
ботаники и селекции, а впоследствии ВИРа - поиск и сбор семян культурных
растений и их диких сородичей, выяснение границ и особенностей земледелия в
различных районах Земли, и все это - с целью использования растительных
ресурсов и опыта мирового земледелия для совершенствования сельского
хозяйства нашей страны. Важно подчеркнуть, что эти поиски шли не в слепую,
как в большинстве стран, в том числе и в США, а опирались на стройную строгую
теорию центров происхождения культурных растений, разработанную Н. И.
Вавиловым.
Во-вторых, экспедиции Н. И. Вавилова характеризовались высокой
эффективностью. Она объяснялась как огромной работоспособностью Николая
Ивановича, так и высокой ответственностью за результаты работы. Его кредо -
труд с максимальной отдачей, без скидок на трудности и болезни. С
минимальными средствами, с одним-двумя спутниками, часто используя только
личные знакомства с учеными, покоряя чиновников и полицейских природным
обаянием, Н. И. Вавилов собрал в своих поездках сам и с помощью добровольных
помощников огромный сортовой семенной материал, обогативший коллекции ВИРа.
И, наконец, характерно бесстрашие, с каким Н. И. Вавилов отправлялся в
труднодоступные и малоисследованные страны мира, такие, как Афганистан и
Эфиопия, преодолевая тяготы походной жизни, опасности пути. Еще в 1923 г. он
писал: "...мне не жалко отдать жизнь ради самого малого в науке...Бродя по
Памиру и Бухаре, приходилось не раз бывать на краю гибели, было жутко не
раз... И как-то было даже, в общем, приятно рисковать".
«Жизнь наша – на колесах», - так часто повторял Н.И. Вавилов.
Время Вавилова было расписано по «получасам», как он сам говорил. Много раз
он повторял фразу: «Жизнь коротка, надо спешить», и работал по 18 часов в
сутки и более, не знал выходных и отпусков всю свою жизнь. Он работал с
азартной неистовостью, его бешеный ритм невольно увлекал людей, работавших
рядом. Существует правдивый анекдот о влиянии энергичной личности Николая
Ивановича на его коллег. Однажды Вавилов приехал с ревизией на одну из
селекционных станций Черноземья. Работники станции три дня кряду водили
ученого по станции, демонстративно проверяли посевы, подсчитывали
урожайность, осматривали технику. К концу третьего дня работники станции
напоминали бестелесные тени, а директор, прощаясь, перепутал Вавилова с его
заместителем. Николай Иванович выглядел бодрым и выспавшимся. После его
отъезда, директор станции дал всем подчиненным недельный отпуск, чего с ним
никогда не случалось. А у Вавилова это было образом жизни.
Характерно, что «в присутствии Н.И, Вавилова никогда не велись обычные
разговоры, они всегда поднимались на большую высоту». (12, стр.149)
Трудности продолжались не один год. В письме в Отдел Наркомзема в мае 1922
года Вавилов писал: «Положение работы нашей никогда не было столь тягостным и
неопределенным. Мы совершенно не получаем средств ни для содержания служащих,
ни для операционных расходов. Для поддержания в течение весеннего времени
работ пришлось продать часть инвентаря и семян, имевшихся в нашем
распоряжении. Не смотря на полную готовность всех служащих потерпеть,
довольствоваться самым ничтожным, создается совершенно невозможное положение.
Пайки приходят с опозданием на целый месяц, и, как Вы сами прекрасно знаете,
они, кроме того, не настолько существенны, чтобы на них можно было
существовать. Жалование служащие не получают 2 месяца. Положение
катастрофическое. У станции нет ни достаточного живого инвентаря, ни средств
для производства работы путем найма лошадей рабочих». (1, стр. 92)
Тем не менее, на всех опытных станциях вплоть до Туркестанского отделения
были произведены посевы, из-за границы получено до 7000 книг, тысячи образцов
семян – ученые продолжали обмениваться научным материалом.
Н.И. Вавилов сам посещал многие станции, на месте намечал план дальнейших
научных работ.
В 1922 году произошло важное событие. Отделы бывшего Сельскохозяйственного
ученого комитета были объединены в Государственный институт опытной
агрономии, директором которого согласился стать Вавилов. 1-го декабря 1923
года Вавилов избирается членом - корреспондентом Академии наук СССР. А в 1924
году Отдел прикладной ботаники и селекции превращается во Всесоюзный институт
прикладной ботаники и новых культур. И перед Вавиловым открываются новые
более широкие возможности. Теперь он может начать организацию экспедиций в
очаги происхождения культурных растений.
Число пунктов географических посевов выросло до 115. около двухсот одних и
тех же сортов разных растений высевалось на станциях; ботаники, биологи,
биохимики проделали несколько миллионов измерений и вычислений, чтобы уловить
закономерности в поведении одних и тех же сортов, попадающих в разные условия
географической среды.
Выяснилось, что с продвижением на восток, в засушливые черноземные области,
содержание белка у пшениц резко возрастает, а у бобовых практически не
изменяется. Некоторые культуры ускоряют свой рост и развитие с продвижением
на север, так как длиннее становится световой день. Значит, идея Н.И.
Вавилова о продвижении земледелия на север не только реально осуществима, но
и подтверждает историческое развитие земледельческой культуры,
распространение ее из наиболее благоприятных субтропических широт на север.
В основе работ довоенного ВИРА лежат фундаментальные труды Вавилова «Закон
гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Центра происхождения
культурных растений», «Географические закономерности в распределении генов
культурных растений».
Работа Н.И. Вавилова и его сотрудников стала основой реализации планов
молодого социалистического государства по обновлению сельского хозяйства.
Голод в Поволжье, планы развития всей советской экономики, декрет о создании
в стране сети селекционных станций побуждали к развитию отечественной
селекции.
В стиле молодого советского государства звучат слова Н.И. Вавилова: «Селекция
представляет собой эволюцию, направляемую волей человека».
«Если ты встал на путь ученого, то помни, что облек себя на вечные искания
нового, на беспокойную жизнь до гробовой доски. У каждого ученого должен быть
мощный ген беспокойства. Он должен быть одержимым» – эти слова Вавилова
буквально соответствуют жизни их автора. (1, стр. 93)
Пустые клетки таблицы гомологических рядов побуждали к поиску новых видов и
родов растений. Н.И. Вавилов понимал: поиск нужно начинать не с дальних
экспедиций, а у себя в кабинете. Не раз сотрудники заставали Вавилова лежащим
на полу на большой географической карте – он намечал маршруты будущих
экспедиций. Надо было найти центры происхождения культурных растений, там
должно было быть максимальное их разнообразие. Центр сосредоточения форм
должен быть центром происхождения культурного вида. Здесь он образовался как
вид, здесь был введен в культуру и отсюда вместе с человеком постепенно
расселялся по Земле. Казалось бы, очень простая мысль. Но от первых догадок о
происхождении культурной ржи в 1916 году до опубликования книги о центрах
происхождения культурных растений прошло 10 лет. Ведь только перечисление
культур, которые исследовал Н.И. Вавилов, заняло бы несколько страниц. Надо
было увидеть тысячелетнюю картину эволюции многих сотен видов во времени и
пространстве!
Вавилов заметил, что для многих культур центры совпадают. «Культура поля идет
всегда рука об руку с культурой человека». Первобытный земледелец, начав
возделывать какое-то одно растение, скоро стал вводить в культуру и другие
растения, растущие рядом. Постепенно земледелие стало его основным занятием,
и так образовалась первобытная земледельческая культура.
В 1926 году Вавилов выделил пять основных очагов происхождения культурных
растений: горные районы Юго-Западной и Юго-Восточной Азии, Средиземноморье,
горная Абиссиния, Южная и Центральная Америка. Впоследствии границы центров
уточнялись, появилось разделение на первичные и вторичные очаги. В ряде работ
отмечено восемь, в более поздних – семь основных центров многообразия
происхождения культурных растений – результат многих экспедиций по пяти
континентам земного шара. За эту работу Вавилову присуждена высшая в то время
награда – премия имени В.И. Ленина, которую он потратил на экспедицию в
Средиземноморье.
Его первая экспедиция состоялась по инициативе военного ведомства в - Иран и
на Памир (май-октябрь 1916года) с целью выяснения причин массового отравления
хлебом в русских войсках. Это дало ему возможность начать изучение очагов
происхождения и разнообразия важнейших хлебных знаков и других культурных
растений, составившее основу всей его последующей деятельности. В том же году
он проделал сложнейший маршрут из Ферганы на Памир. Уже в этом путешествии
были обнаружены оригинальные формы безлигульных хлебных злаков,
способствовавшие открытию закона гомологических рядов, и получены ценные
данные о происхождении культурной ржи. Вавилов мечтал найти родину персидской
пшеницы, и хотя этой пшеницы он там не нашел, была собрана богатая коллекция
– более пятидесяти разновидностей пшеницы, причем концентрация разновидностей
увеличивалась по мере приближения к древнему очагу земледельческой культуры.
После пятидесятиградусной жары в Иране – непроходимые ледники Памира,
переправа по расшатанным обледенелым мосткам над грохочущими горными реками,
узкие обваливающиеся под шагами тропы над пропастью.
В годы преподавания в Саратове Н. И. Вавилов организовал изучение юго-
восточных губерний Европейской России (Астраханской, Царицынской, Самарской и
Саратовской), послужившее основой для опубликования в 1922 году книги
"Полевые культуры Юго-востока".
1921-1922гг – поездка в США и страны Западной Европы, во время которой были
обследованы обширные зерновые районы США и Канады. 1924 год (июль-декабрь) –
экспедиция в Афганистан по основным земледельческим районам. Отчет об
экспедиции – более пятисот страниц текста, масса фотографий, рисунков, карты
и описания маршрутов общей протяженностью более пяти тысяч километров,
сведения о численности населения, особенностях их быта – позволил дать не
только детальную характеристику разнообразия культурных растений и
особенностей хозяйства страны, но и экономико-географическое и
этнографическое описание. И весь этот труд был осуществлен за полгода лишь
тремя исследователями – Н.И. Вавиловым, Д.Д. Букеничем и В.И. Лебедевым, и
основная часть – Николаем Ивановичем.
Было собрано семь тысяч образцов семян, колосьев культурных растений, около
тысячи листов гербария. За эту экспедицию Географическое общество СССР
присудило Н.И. Вавилову высшую награду – золотую медаль имени Н.М.
Пржевальского.
В этой экспедиции Николай Иванович был представителем страны, с которой
недавно были установлены дипломатические отношения. Ночевки в караван-сараях,
рядом с лошадьми, укусы больших черных вшей. По дороге – сотни больных,
которые обращались за помощью к доктору (азиаты любого европейца в те времена
считали врачом).
Неподалеку от Кабула Н.И. Вавилов получил сообщение о восстании племени,
направляющегося в Кабул под религиозными лозунгами борьбы с неверными.
Европейцы покидали Кабул. Вавилов же, наоборот, устремился в Кабул, опасный
город. С огромным уважением пишет Вавилов в книге «Пять континентов» о труде
земледельцев.
Д.С. Лихачев в отзыве о книге «Пять материков» отмечал, что в ней открывается
одна очень светлая грань личности Н.И. Вавилова: огромный и искренний интерес
к людям в любой точке планеты, к их жизни, болям, тревогам. У него
поразительные характеристики людей. Сквозь строки просвечивает его
неразрывная связь с окружающим обществом, связь через интерес к живым,
конкретным людям. Для Н.И. Вавилова характерен не только широкий, страстный
интерес к своей области науки, но и глубочайший интерес к людям,
снисходительность к их странностям и слабостям, сочувствие к людям,
искренность, порядочность и честность, этическая чистота. Хочется подчеркнуть
также глубокое уважение к обычаям, культуре разных народов и тонкое
эстетическое восприятие действительности.
Путешествуя по разным странам, нельзя не обращать внимания на политику и
экономику. В записях Н.И. Вавилова есть ряд заметок, отражающих политические
события. Так, в главе «Палестина и Транс-Иордания» он отмечает: «Нельзя
пройти мимо национальных аномалий, мимо той розни, которая чаще всего
искусственно культивируется в этой стране» (6, стр. 170). Сочувствуя борьбе
испанского народа против фашизма, он писал: «Испанские события затрагивают
весь земной шар: в них как в фокусе сосредоточена борьба двух миров» (6, стр.
145). Книге Н.И. Вавилова «Пять континентов» предшествует такое предисловие
автора: «Географическая литература обширна, но каждый из нас видит разное в
зависимости от того, через какой фильтр проходят факты, куда стремится
исследователь. Естественным желанием автора было дать возможность читателю
пробежать с ним огромные территории наиболее замечательных районов Земли, где
зарождалась, творилась и творится великая земледельческая культура» (6, стр.
5).
Как жаль, что эта книга осталась незаконченной! Не все произведения Н.И.
Вавилова пока найдены и изданы, и наш долг – обнародовать все наследие
Николая Ивановича.
В 1925 г. экспедиции в Хивинский оазис и другие сельскохозяйственные районы
Узбекистана.
В 1926 - 1927 годах Н. И. Вавилов совершил путешествие по странам
Средиземноморья - Алжиру, Тунису, Марокко, Ливану, Сирии, Палестине,
Трансиорданиии, Греции, Италии, островам Сицилия, Сардиния, Крит, Кипр, Южной
Франции, Испании, Португалии. По Суэцкому каналу и Красному морю, он приплыл
во Французское Сомали, а оттуда - в Эфиопию (Абиссинию) и Эритрею. И в этой
экспедиции караванные и пешие маршруты составили около 2 тыс. км. Семенной
материал, собранный Николаем Ивановичем, исчислялся многими сотнями посылок,
тысячами образцов. На обратном пути на Родину (1927 г.) Вавилов ознакомился с
земледелием в горных районах Вюртемберга (Германия), принял участие в
Международном генетическом конгрессе в Берлине, выступив с докладом "О
мировых географических центрах генов культурных растений".
В 1929 году он вместе с ботаником М. Г. Поповым совершил путешествие в
северо-западную часть Китая - Синьцзян, а потом уже в одиночку, в Японию, на
остров Тайвань и в Корею. Цель его - изучение особенностей сельского
хозяйства.
В 1930 году Н. И. Вавилов совершает экспедицию в Мексику и ряд стран
Центральной Америки. Он объезжает все южные штаты США от Калифорнии до
Флориды, пересекает двумя маршрутами горные и равнинные районы Мексики,
Гватемалу.
В 1931 году Н. И. Вавилов побывал в Дании и Швеции.
В 1932 - 1933 годах, после VI Международного генетического конгресса в Итаке
(США), на котором Н. И. Вавилов был избран вице-президентом, он объехал ряд
провинций Канады и затем совершил обследование земледельческих районов
большинства стран Центральной и Южной Америки: Сальвадора, Коста-Рики,
Никарагуа, Панамы, Перу, Боливии, Чили, Аргентины, Уругвая, Бразилии,
Тринидада, Кубы, Пуэрто-Рико. И в этом путешествии удивляет интенсивность
работы Николая Ивановича - знакомство с научными учреждениями, ботаническими
садами, рынками, фермами, сбор семян и плодов, сельскохозяйственных культур и
других полезных растений, лекции и доклады, интервью журналистам, поиск,
приобретение и пересылка научной литературы.
В 1934 - 1939 гг. ежегодными экспедициями были охвачены все земледельческие
районы Кавказа и Закавказья, а в 1940г. Н. И. Вавилов возглавил большую
комплексную экспедицию по западным областям Белоруссии и Украины.
В итоге с 1923 по 1940 г. Вавиловым и другими сотрудниками ВИРа было
совершено 180 экспедиций, из них 40 - в 65 зарубежных стран. Мировая
коллекция института к 1940 г. состояла из 250 тыс. образцов, из них 36 тыс.
образцов пшеницы, 10 тыс. - кукурузы, 23 тыс. - кормовых и т.д.
К сожалению, нет возможности даже «пробежать» с Н.И. Вавиловым все его
маршруты, услышать его комментарии к увиденному, еще и еще раз удивиться тому
бесстрашию, с которым Н.И. Вавилов преодолевал самые опасные переправы,
перевалы, собирал научный материал в районах военных действий. Лично меня при
чтении произведений Г. Голубева и Г. Бальдыша, носящих отчасти художественный
характер, в особенности глав, описывающих экспедиции Вавилова, не покидало
ощущение, что я держу в руках приключенческий роман. К сожалению, объем
работы не позволяет в полной мере пересказать богатое и интересное содержание
путешествий ученого. Достаточно взглянуть на сам перечень территорий, по
которым проходили маршруты его экспедиций (см. приложение № 1).
Что характерно для экспедиций Н. И. Вавилова и его сотрудников? Во-первых,
четкая целенаправленность. Главная задача всех экспедиций Отдела прикладной
ботаники и селекции, а впоследствии ВИРа - поиск и сбор семян культурных
растений и их диких сородичей, выяснение границ и особенностей земледелия в
различных районах Земли, и все это - с целью использования растительных
ресурсов и опыта мирового земледелия для совершенствования сельского
хозяйства нашей страны. Важно подчеркнуть, что эти поиски шли не в слепую,
как в большинстве стран, в том числе и в США, а опирались на стройную строгую
теорию центров происхождения культурных растений, разработанную Н. И.
Вавиловым.
Во-вторых, экспедиции Н. И. Вавилова характеризовались высокой
эффективностью. Она объяснялась как огромной работоспособностью Николая
Ивановича, так и высокой ответственностью за результаты работы. Его кредо -
труд с максимальной отдачей, без скидок на трудности и болезни. С
минимальными средствами, с одним-двумя спутниками, часто используя только
личные знакомства с учеными, покоряя чиновников и полицейских природным
обаянием, Н. И. Вавилов собрал в своих поездках сам и с помощью добровольных
помощников огромный сортовой семенной материал, обогативший коллекции ВИРа.
И, наконец, характерно бесстрашие, с каким Н. И. Вавилов отправлялся в
труднодоступные и малоисследованные страны мира, такие, как Афганистан и
Эфиопия, преодолевая тяготы походной жизни, опасности пути. Еще в 1923 г. он
писал: "...мне не жалко отдать жизнь ради самого малого в науке...Бродя по
Памиру и Бухаре, приходилось не раз бывать на краю гибели, было жутко не
раз... И как-то было даже, в общем, приятно рисковать".
«Жизнь наша – на колесах», - так часто повторял Н.И. Вавилов.
Время Вавилова было расписано по «получасам», как он сам говорил. Много раз
он повторял фразу: «Жизнь коротка, надо спешить», и работал по 18 часов в
сутки и более, не знал выходных и отпусков всю свою жизнь. Он работал с
азартной неистовостью, его бешеный ритм невольно увлекал людей, работавших
рядом. Существует правдивый анекдот о влиянии энергичной личности Николая
Ивановича на его коллег. Однажды Вавилов приехал с ревизией на одну из
селекционных станций Черноземья. Работники станции три дня кряду водили
ученого по станции, демонстративно проверяли посевы, подсчитывали
урожайность, осматривали технику. К концу третьего дня работники станции
напоминали бестелесные тени, а директор, прощаясь, перепутал Вавилова с его
заместителем. Николай Иванович выглядел бодрым и выспавшимся. После его
отъезда, директор станции дал всем подчиненным недельный отпуск, чего с ним
никогда не случалось. А у Вавилова это было образом жизни.
Характерно, что «в присутствии Н.И, Вавилова никогда не велись обычные
разговоры, они всегда поднимались на большую высоту». (12, стр.149)
 Всегда предельная нагрузка, немыслимо сложные задачи. В великом человеке
всегда есть что-то, обычными мерками не измеримое. В стремлении Вавилова
«объять необъятное» видится нечто именно вавиловское, логичному объяснению не
поддающееся.
И на родине, и за границей – он везде тот же, увлеченный, жизнерадостный, но
эта философия оптимизма выстрадана им – он сумел заставить себя быть
жизнерадостным.
Яркая черта в характере Николая Ивановича – любовь к детям. Как вспоминает
его племянник А.Н. Ипатьев, его приезд всегда сопровождался веселым шумом,
оживлением. Он всегда был жизнерадостным, полным энергии, которая буквально
била из него ключом. Детей он баловал, привозил им подарки, чаще всего книги.
Находил время сходить с племянником в московский зоосад, свои научные
интересы сочетал с лодочными прогулками, угощением детей газированной водой.
Часто ходил с детьми в кино, но там он почти тотчас засыпал: сказывался
напряженный ритм жизни, постоянное недосыпание. Разрешал проехаться с ним на
автомобиле, когда за ним присылали машину из Кремля. Каждое общение с
Николаем Ивановичем вливало в людей большой заряд энергии, дети его искренне
любили.
В 35 лет Н.И. Вавилов становится руководителем всей сельскохозяйственной
науки страны.
В 1926 году его избирают в ЦИК СССР и ВЦИК, в 1926 году он становится
профессором, а в 1929 году – академиком Академии Наук СССР и УССР, в том же
году Вавилов становится Президентом ВАСХНИЛ. В 1931 году Николай Иванович
избран президентом Всесоюзного географического общества, в 1933 - директором
Института генетики.
Здесь позволю себе сделать небольшое отступление и рассказать о
взаимоотношениях 2 величайших деятелей советской биологической науки: Н.И.
Вавилова и И.В. Мичурина.
В 20-х годах каждый разговор об успехах советской сельскохозяйственной и
биологической науки начинался и кончался здравицей в честь Ивана
Владимировича Мичурина. Из одной газеты в другую кочевали такие
словосочетания, как «передовая мичуринская биология», «Мы не можем ждать
милостей от природы.» и т. д. памятно и то, как в конце 30-х годов родились
словечки «мичуринец», «антимичуринец». Терминология эта, поначалу не очень
понятная широкой публике, очень скоро вышла за пределы специальных изданий и
научных лабораторий. Школьные учителя на уроках биологии, лекторы-
популяризаторы, журналисты на страницах общей прессы быстро растолковали
непосвященным, что термин «мичуринец» к термину «антимичуринец» относится так
же, как белое относится к черному, рай к аду, мед к дегтю. С годами термины
«мичуринский», «мичуринец» приобретали все более политический смысл. В конце
тридцатых, в начале сороковых годов слова эти означали уже не только «научно-
состоятельный» и «сторонник верного направления в биологии», но также и
«политически лояльный». Мичуринизм стал государственным взглядом на
биологическую науку и сельское хозяйство, а всякое опровержение или сомнение
в доктрине садовода Мичурина рассматривалось как политический выпад. Одним из
первых антимичуринцев, то есть противников покойного Ивана Владимировича
Мичурина, был объявлен в середине 30-х годов Н.И. Вавилов. Произносились
против него в те годы и другие хулы, но сначала разберемся с этой. Вавилов
враг Мичурина? Так ли?
Впервые Николай Иванович встретился с Иваном Владимировичем в сентябре 1920
года. В Воронеже только что закончился Всероссийский съезд по прикладной
ботанике. Специальный железнодорожный вагон доставил агрономов из губернского
Воронежа в уездный Козлов. Делегаты съезда не пожалели о поездке: сад Мичурина,
его опыты всех заинтересовали. Но условия, в которых трудился талантливый
садовод, заставили даже привычных к спартанской скромности провинциальных
опытников развести руками. «Мы вспоминаем убогую обстановку станции в начале
революции, убогую избушку, в которой жил и работал один из самых замечательных
плодоводов нашего времени. В запущенном саду приходилось с трудом разыскивать
замечательные гибриды. Не было рук, чтобу привести сад в порядок», - писал
впоследствии один из участников поездки. Автором этих строк был Вавилов. (14,
стр. 78)
В том году, когда тридцатитрехлетний саратовский профессор впервые навестил
Козлов, Ивану Мичурину было уже шестьдесят пять. Большая часть жизни осталась
позади, жизни тяжелой, одинокой, нищенской. В России о его опытах, поисках,
сортах знали единицы. Изыскивая средства к существованию, садовод вынужден
паять прохудившиеся ведра и принимать в починку пишущие машинки.
Именно в эту тяжкую для Ивана Владимировича пору на помощь пришел Вавилов.
Еще в первый свой приезд он познакомился с идеями Козловского самоучки и понял,
что перед ним талантливый и пытливый искатель. Когда по документам и письмам
начала 20-х годов прослеживаешь отношения двух растениеводов, то ясно видишь
цель ленинградского профессора: открыв для себя Мичурина, Вавилов стремится как
можно шире распространить известность провинциального садовода. Это очень
по-вавиловски: полюбившиеся ему чужие исследования Николай Иванович
популяризирует даже охотнее, чем свои собственные. Между ленинградским
институтом и плодовым питомником в Козлове идет оживленная переписка, обмен
растениями. Николай Иванович составляет перечень всего опубликованного
Мичуриным. Он просит садовода написать для журнала итоговую статью и принимает
эту статью к печати. Наконец, он направляет в Козлов известного плодовода В.В.
Пашкевича опять-таки для того, чтобы тот описал научную деятельность Мичурина.
Но Вавилову этого мало. Мичурин бедствует, необходимо помочь ему практически,
немедленно. В начале 1922 года Николай Иванович выступил на Всероссийском
совещании по опытному делу с речью, в которой призвал Наркомзем РСФСР кА можно
скорее поддержать питомник Мичурина. В Народный комиссариат земледелия
отправлено письмо: повод самый уважительный – надо отметить сорок пять лет
научной деятельности выдающегося русского селекционера. Послав письмо, Николай
Иванович следом сам едет в Москву «проталкивать2 свой меморандум. И вот,
наконец, хлопоты завершены. Девятого октября 1922 года коллегия Наркозема
принимает решение:
«1. Выдать И.В. Мичурину особый акт, во-первых, с указанием его
государственных заслуг, выразившихся в многолетней работе по выведению ряда
ценных сортов плодовых растений,.во-вторых, пожизненно закрепляющий за ним
земельный участок, на котором расположен его сад.
2. Выделить И.В. Мичурину – 500.000рублей дензнаками 1922 года в его личное
безотчетное распоряжение.
3. Поручить Редакционно-издательскому отделу НКЗ собрать и издать труды
Мичурина с его биографией и портретом под общей редакцией профессора Н.И.
Вавилова.». (14, стр. 80)
Это постановление сыграло важную роль в жизни Ивана Владимировича. Дом и сад
его были освобождены от налогов, нужда отступила, а через год он был назначен
директором значительно расширенного питомника имени Мичурина. Еще год спустя
вышла его первая книга. Во вступлении Иван Владимирович писал, что сводка работ
его за сорок шесть лет смогла увидеть свет только благодаря усилиям профессора
Н.И. Вавилова. Перу Вавилова принадлежит и тепло написанное предисловие.
Незадолго перед тем Николай Иванович вернулся из США, где, меду прочим,
навестил садовода Бербанка. Свое предисловие построил он на сравнении труда
двух умельцев-самоучек: «Условия труда русского оригинатора неизмеримо труднее,
но много поразительно сходного в духовном облике того и другого. Оба более
сорока лет трудятся над общим делом. Оба пришли к тому, что пути улучшения
современных сортов растений лежат в широком привлечении со всех концов земли
растительных форм, в широком применении скрещивания их между собой, в
скрещивании диких форм с культурными. Как то, так и другой на склоне лет, после
полувекового упорного труда продолжают быть искателями, дерзающими идти
вперед». (17, стр. 81)
Параллель между русским и американским плодоводами подчеркивал Николай
Иванович несколько раз и позже. В январе 1929 года по его предложению в Козлов
была послана телеграмма: «Первый Всесоюзный съезд по генетике, селекции,
семеноводству и племенному животноводству приветствует советского Бербанка,
творца новых форм, полезных для человека, и желает новых сил, здоровья в Вашей
ценной для Союза работе». По постановлению съезда телеграмму подписал Вавилов.
А как относился к ленинградскому доброжелателю Иван Владимирович? Вот что он
говорил близкому другу агроному П С. Лебедеву: «У меня был Николай Иванович
Вавилов. Ты знаешь, какой это человек: умница, большой ученый, прекрасной души.
Ведь он мою работу выдвигает, так помогает в расширении наших работ. Он так
поддерживает нас. Как он любит все новое!».
Через несколько лет в июне 1932 года секретарь и друг Мичурина А.Н. Бахарев
оказался свидетелем встречи, которую подробно описал: «Иван Владимирович и
Николай Иванович, тепло улыбаясь, с радостными восклицаниями пожимали друг
другу руки как старые добрые друзья. Иван Владимирович пригласил гостей на
скамью, находившуюся в прохладной тени мощных кустов японской сирени. Я мыслил
встретить в Вавилове сухого, чопорного, недоступного ученого. Но Николай
Иванович, которого я видел впервые, удивил меня своим на редкость гармоничным
сочетанием прекрасных манер и простоты в общении, что как-то сразу располагало
к нему и создало атмосферу теплоты и сердечности.
Николай Иванович взял плодик вишни, вдавил каплю сока и, посмотрев на нее
перед лучом солнца, воскликнул:
- Рубин! Истинный рубин.– дегустируя с восторгом плоды этой вишни, Николай
Иванович теплым взором окинул Ивана Владимировича и потом озабоченно заговорил:
-Если бы мы могли выполнять заказы народного хозяйства на выведение нужных
сортов всех сельскохозяйственных растений, как это делаете вы, Иван
Владимирович, мы в одно десятилетие оставили бы далеко позади селекционеров
Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Размножайте эту вишню как можно
скорее и как можно больше.
С экспериментальной базы Научно-исследовательского института в
Селекционно-генетическую станцию имени Мичурина мне пришлось ехать в
старомодной обширной и спокойной коляске с Николаем Ивановичем и его сыном
Олегом. По дороге Николай Иванович расспрашивал меня о здоровье Ивана
Владимировича, о его бытовых нуждах и просил в затруднительных случаях
обращаться прямо к нему.
Сохранилось немало и других свидетельств о дружбе двух растениеводов. По
просьбе Вавилова американские семенные фирмы посылали Мичурину нужные ему
семена и посадочные материал. В библиотеке Ботанического института АН СССР в
Ленинграде я видел экземпляр второго тома мичуринских «итогов полувековых
работ». На титульном листе характерным почерком Ивана Владимировича выведено:
«Многоуважаемому президенту Академии сельскохозяйственных наук СССР академику
Николаю Ивановичу Вавилову на добрую память от автора – И.В. Мичурина. 8 апреля
1933 года». (14, стр. 82-83)
Последний раз Вавилов приехал в Мичуринск в сентябре 1934 года. Город вместе
со всей страной праздновал шестидесятилетие научной деятельности знаменитого
плодовода. Первое слово от имени двух академий произнес Вавилов: «Академия наук
и мы, научные работники, все мы гордимся иметь в своей среде Ивана
Владимировича Мичурина. Его подвиг показывает, как надо жить и как надо
работать». Слова о том, что Мичурин достоин быть в среде членов Академии наук
СССР, не случайно прозвучали в тот день. Через несколько месяцев, первого июня
1935 года, в протоколе общего собрания Академии наук СССР появилась запись:
«Непременный секретарь доложил заявление двенадцати действительных членов
Академии наук об избрании в почетные члены И.В. Мичурина». Первым подписал
заявление Вавилов. Он же составил текст. Вечером того же дня состоялось тайное
баллотирование кандидатуры нового академика. Мичурин был избран почетным членом
АН СССР.
Неделю спустя, 7 июня 1935 года, Мичурина не стало. Все газеты страны
опубликовали траурное сообщение. На следующий день в «правде» вышла статья
Вавилова. Называлась она кратко – «Подвиг». Крупнейший биолог-теоретик
Советского союза не только высочайшим образом оценил подвиг Мичурина-практика,
но воздал должное мичуринскому наследию. «Его труд проникнут материалистической
философией, и многие положения его совершенно оригинальны. Во всех своих трудах
Мичурин зовет к самостоятельности, к творческой работе». (14, стр. 84)
Такова правда об отношениях между Вавиловым и Мичуриным. Но нашлись люди,
которые заявили, что хотя Николай Иванович и не был личным врагом Ивана
Владимировича, но он противник, враг теоретических принципов Мичуринской
селекции.
Обращаясь к молодежи, восьмидесятилетний Мичурин призывал молодых
исследователей спорить с ним, а если у оппонентов есть свои собственные
проверенные наблюдения, то, не стесняясь, опровергать его взгляды.
Спорить с учителями – великая традиция науки. Позволительно даже утверждать,
что только в противоборстве с прежде установленными истинами и развивалось от
века человеческое знание. Именно несогласные, упрямцы, готовые подвергнуть
проверке любой тезис предшественников, достигли в науке всего.
Вавилов был из упрямцев. Чувство критики не покидало Николая Ивановича при
общении с самыми знаменитыми исследователями. Обучаясь в Англии, он высказывал
свое несогласие с Дарвином, исписывая обложки и поля книг великого биолога
весьма резкими замечаниями. Даже любимый учитель Вильям Бэтсон не избег
нелицеприятной критики дотошного ученика. Короче: в научных спорах Вавилов на
лица не взирал. Вавилов как крупный биолог-теоретик с одобрением относится к
практическим достижениям селекционера Мичурина. Но при этом он откровенно
обнажает ряд ненаучных, слабых мест мичуринской теории. Вавилов заметил, что в
работах Мичурина биологические теории по существу играют очень малую роль. Как
и американец Лютер Бербанк, селекционер из русского города Козлова очень
многого добился в своем саду за счет своей интуиции и огромного опыта. Да
Мичурин и сам, как всякий крупный исследователь и человек, никогда не выдавал
свои взгляды за истину последней инстанции. В той самой первой своей книге,
что была издана при участии Вавилова, Иван Владимирович писал: «Я нисколько не
претендую на какую-то выставку новых открытий или на опровержение каких-либо
установленных авторитетами науки законов, я только излагаю мои заключения и
доводы на основании личных, практических моих долголетних работ в деле
выведения новых сортов плодовых растений, причем, очень может быть, впадаю в
некоторых случаях в ошибки неправильного понимания различных явлений и жизни
растений и приложения к ним хотя бы законов Менделя и других учений последнего
времени, но такие ошибки неизбежны при всяких работах, большого значения иметь
не могут, так как впоследствии, вероятно, будут исправлены другими деятелями».
(14, стр. 88-89)
Всегда предельная нагрузка, немыслимо сложные задачи. В великом человеке
всегда есть что-то, обычными мерками не измеримое. В стремлении Вавилова
«объять необъятное» видится нечто именно вавиловское, логичному объяснению не
поддающееся.
И на родине, и за границей – он везде тот же, увлеченный, жизнерадостный, но
эта философия оптимизма выстрадана им – он сумел заставить себя быть
жизнерадостным.
Яркая черта в характере Николая Ивановича – любовь к детям. Как вспоминает
его племянник А.Н. Ипатьев, его приезд всегда сопровождался веселым шумом,
оживлением. Он всегда был жизнерадостным, полным энергии, которая буквально
била из него ключом. Детей он баловал, привозил им подарки, чаще всего книги.
Находил время сходить с племянником в московский зоосад, свои научные
интересы сочетал с лодочными прогулками, угощением детей газированной водой.
Часто ходил с детьми в кино, но там он почти тотчас засыпал: сказывался
напряженный ритм жизни, постоянное недосыпание. Разрешал проехаться с ним на
автомобиле, когда за ним присылали машину из Кремля. Каждое общение с
Николаем Ивановичем вливало в людей большой заряд энергии, дети его искренне
любили.
В 35 лет Н.И. Вавилов становится руководителем всей сельскохозяйственной
науки страны.
В 1926 году его избирают в ЦИК СССР и ВЦИК, в 1926 году он становится
профессором, а в 1929 году – академиком Академии Наук СССР и УССР, в том же
году Вавилов становится Президентом ВАСХНИЛ. В 1931 году Николай Иванович
избран президентом Всесоюзного географического общества, в 1933 - директором
Института генетики.
Здесь позволю себе сделать небольшое отступление и рассказать о
взаимоотношениях 2 величайших деятелей советской биологической науки: Н.И.
Вавилова и И.В. Мичурина.
В 20-х годах каждый разговор об успехах советской сельскохозяйственной и
биологической науки начинался и кончался здравицей в честь Ивана
Владимировича Мичурина. Из одной газеты в другую кочевали такие
словосочетания, как «передовая мичуринская биология», «Мы не можем ждать
милостей от природы.» и т. д. памятно и то, как в конце 30-х годов родились
словечки «мичуринец», «антимичуринец». Терминология эта, поначалу не очень
понятная широкой публике, очень скоро вышла за пределы специальных изданий и
научных лабораторий. Школьные учителя на уроках биологии, лекторы-
популяризаторы, журналисты на страницах общей прессы быстро растолковали
непосвященным, что термин «мичуринец» к термину «антимичуринец» относится так
же, как белое относится к черному, рай к аду, мед к дегтю. С годами термины
«мичуринский», «мичуринец» приобретали все более политический смысл. В конце
тридцатых, в начале сороковых годов слова эти означали уже не только «научно-
состоятельный» и «сторонник верного направления в биологии», но также и
«политически лояльный». Мичуринизм стал государственным взглядом на
биологическую науку и сельское хозяйство, а всякое опровержение или сомнение
в доктрине садовода Мичурина рассматривалось как политический выпад. Одним из
первых антимичуринцев, то есть противников покойного Ивана Владимировича
Мичурина, был объявлен в середине 30-х годов Н.И. Вавилов. Произносились
против него в те годы и другие хулы, но сначала разберемся с этой. Вавилов
враг Мичурина? Так ли?
Впервые Николай Иванович встретился с Иваном Владимировичем в сентябре 1920
года. В Воронеже только что закончился Всероссийский съезд по прикладной
ботанике. Специальный железнодорожный вагон доставил агрономов из губернского
Воронежа в уездный Козлов. Делегаты съезда не пожалели о поездке: сад Мичурина,
его опыты всех заинтересовали. Но условия, в которых трудился талантливый
садовод, заставили даже привычных к спартанской скромности провинциальных
опытников развести руками. «Мы вспоминаем убогую обстановку станции в начале
революции, убогую избушку, в которой жил и работал один из самых замечательных
плодоводов нашего времени. В запущенном саду приходилось с трудом разыскивать
замечательные гибриды. Не было рук, чтобу привести сад в порядок», - писал
впоследствии один из участников поездки. Автором этих строк был Вавилов. (14,
стр. 78)
В том году, когда тридцатитрехлетний саратовский профессор впервые навестил
Козлов, Ивану Мичурину было уже шестьдесят пять. Большая часть жизни осталась
позади, жизни тяжелой, одинокой, нищенской. В России о его опытах, поисках,
сортах знали единицы. Изыскивая средства к существованию, садовод вынужден
паять прохудившиеся ведра и принимать в починку пишущие машинки.
Именно в эту тяжкую для Ивана Владимировича пору на помощь пришел Вавилов.
Еще в первый свой приезд он познакомился с идеями Козловского самоучки и понял,
что перед ним талантливый и пытливый искатель. Когда по документам и письмам
начала 20-х годов прослеживаешь отношения двух растениеводов, то ясно видишь
цель ленинградского профессора: открыв для себя Мичурина, Вавилов стремится как
можно шире распространить известность провинциального садовода. Это очень
по-вавиловски: полюбившиеся ему чужие исследования Николай Иванович
популяризирует даже охотнее, чем свои собственные. Между ленинградским
институтом и плодовым питомником в Козлове идет оживленная переписка, обмен
растениями. Николай Иванович составляет перечень всего опубликованного
Мичуриным. Он просит садовода написать для журнала итоговую статью и принимает
эту статью к печати. Наконец, он направляет в Козлов известного плодовода В.В.
Пашкевича опять-таки для того, чтобы тот описал научную деятельность Мичурина.
Но Вавилову этого мало. Мичурин бедствует, необходимо помочь ему практически,
немедленно. В начале 1922 года Николай Иванович выступил на Всероссийском
совещании по опытному делу с речью, в которой призвал Наркомзем РСФСР кА можно
скорее поддержать питомник Мичурина. В Народный комиссариат земледелия
отправлено письмо: повод самый уважительный – надо отметить сорок пять лет
научной деятельности выдающегося русского селекционера. Послав письмо, Николай
Иванович следом сам едет в Москву «проталкивать2 свой меморандум. И вот,
наконец, хлопоты завершены. Девятого октября 1922 года коллегия Наркозема
принимает решение:
«1. Выдать И.В. Мичурину особый акт, во-первых, с указанием его
государственных заслуг, выразившихся в многолетней работе по выведению ряда
ценных сортов плодовых растений,.во-вторых, пожизненно закрепляющий за ним
земельный участок, на котором расположен его сад.
2. Выделить И.В. Мичурину – 500.000рублей дензнаками 1922 года в его личное
безотчетное распоряжение.
3. Поручить Редакционно-издательскому отделу НКЗ собрать и издать труды
Мичурина с его биографией и портретом под общей редакцией профессора Н.И.
Вавилова.». (14, стр. 80)
Это постановление сыграло важную роль в жизни Ивана Владимировича. Дом и сад
его были освобождены от налогов, нужда отступила, а через год он был назначен
директором значительно расширенного питомника имени Мичурина. Еще год спустя
вышла его первая книга. Во вступлении Иван Владимирович писал, что сводка работ
его за сорок шесть лет смогла увидеть свет только благодаря усилиям профессора
Н.И. Вавилова. Перу Вавилова принадлежит и тепло написанное предисловие.
Незадолго перед тем Николай Иванович вернулся из США, где, меду прочим,
навестил садовода Бербанка. Свое предисловие построил он на сравнении труда
двух умельцев-самоучек: «Условия труда русского оригинатора неизмеримо труднее,
но много поразительно сходного в духовном облике того и другого. Оба более
сорока лет трудятся над общим делом. Оба пришли к тому, что пути улучшения
современных сортов растений лежат в широком привлечении со всех концов земли
растительных форм, в широком применении скрещивания их между собой, в
скрещивании диких форм с культурными. Как то, так и другой на склоне лет, после
полувекового упорного труда продолжают быть искателями, дерзающими идти
вперед». (17, стр. 81)
Параллель между русским и американским плодоводами подчеркивал Николай
Иванович несколько раз и позже. В январе 1929 года по его предложению в Козлов
была послана телеграмма: «Первый Всесоюзный съезд по генетике, селекции,
семеноводству и племенному животноводству приветствует советского Бербанка,
творца новых форм, полезных для человека, и желает новых сил, здоровья в Вашей
ценной для Союза работе». По постановлению съезда телеграмму подписал Вавилов.
А как относился к ленинградскому доброжелателю Иван Владимирович? Вот что он
говорил близкому другу агроному П С. Лебедеву: «У меня был Николай Иванович
Вавилов. Ты знаешь, какой это человек: умница, большой ученый, прекрасной души.
Ведь он мою работу выдвигает, так помогает в расширении наших работ. Он так
поддерживает нас. Как он любит все новое!».
Через несколько лет в июне 1932 года секретарь и друг Мичурина А.Н. Бахарев
оказался свидетелем встречи, которую подробно описал: «Иван Владимирович и
Николай Иванович, тепло улыбаясь, с радостными восклицаниями пожимали друг
другу руки как старые добрые друзья. Иван Владимирович пригласил гостей на
скамью, находившуюся в прохладной тени мощных кустов японской сирени. Я мыслил
встретить в Вавилове сухого, чопорного, недоступного ученого. Но Николай
Иванович, которого я видел впервые, удивил меня своим на редкость гармоничным
сочетанием прекрасных манер и простоты в общении, что как-то сразу располагало
к нему и создало атмосферу теплоты и сердечности.
Николай Иванович взял плодик вишни, вдавил каплю сока и, посмотрев на нее
перед лучом солнца, воскликнул:
- Рубин! Истинный рубин.– дегустируя с восторгом плоды этой вишни, Николай
Иванович теплым взором окинул Ивана Владимировича и потом озабоченно заговорил:
-Если бы мы могли выполнять заказы народного хозяйства на выведение нужных
сортов всех сельскохозяйственных растений, как это делаете вы, Иван
Владимирович, мы в одно десятилетие оставили бы далеко позади селекционеров
Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. Размножайте эту вишню как можно
скорее и как можно больше.
С экспериментальной базы Научно-исследовательского института в
Селекционно-генетическую станцию имени Мичурина мне пришлось ехать в
старомодной обширной и спокойной коляске с Николаем Ивановичем и его сыном
Олегом. По дороге Николай Иванович расспрашивал меня о здоровье Ивана
Владимировича, о его бытовых нуждах и просил в затруднительных случаях
обращаться прямо к нему.
Сохранилось немало и других свидетельств о дружбе двух растениеводов. По
просьбе Вавилова американские семенные фирмы посылали Мичурину нужные ему
семена и посадочные материал. В библиотеке Ботанического института АН СССР в
Ленинграде я видел экземпляр второго тома мичуринских «итогов полувековых
работ». На титульном листе характерным почерком Ивана Владимировича выведено:
«Многоуважаемому президенту Академии сельскохозяйственных наук СССР академику
Николаю Ивановичу Вавилову на добрую память от автора – И.В. Мичурина. 8 апреля
1933 года». (14, стр. 82-83)
Последний раз Вавилов приехал в Мичуринск в сентябре 1934 года. Город вместе
со всей страной праздновал шестидесятилетие научной деятельности знаменитого
плодовода. Первое слово от имени двух академий произнес Вавилов: «Академия наук
и мы, научные работники, все мы гордимся иметь в своей среде Ивана
Владимировича Мичурина. Его подвиг показывает, как надо жить и как надо
работать». Слова о том, что Мичурин достоин быть в среде членов Академии наук
СССР, не случайно прозвучали в тот день. Через несколько месяцев, первого июня
1935 года, в протоколе общего собрания Академии наук СССР появилась запись:
«Непременный секретарь доложил заявление двенадцати действительных членов
Академии наук об избрании в почетные члены И.В. Мичурина». Первым подписал
заявление Вавилов. Он же составил текст. Вечером того же дня состоялось тайное
баллотирование кандидатуры нового академика. Мичурин был избран почетным членом
АН СССР.
Неделю спустя, 7 июня 1935 года, Мичурина не стало. Все газеты страны
опубликовали траурное сообщение. На следующий день в «правде» вышла статья
Вавилова. Называлась она кратко – «Подвиг». Крупнейший биолог-теоретик
Советского союза не только высочайшим образом оценил подвиг Мичурина-практика,
но воздал должное мичуринскому наследию. «Его труд проникнут материалистической
философией, и многие положения его совершенно оригинальны. Во всех своих трудах
Мичурин зовет к самостоятельности, к творческой работе». (14, стр. 84)
Такова правда об отношениях между Вавиловым и Мичуриным. Но нашлись люди,
которые заявили, что хотя Николай Иванович и не был личным врагом Ивана
Владимировича, но он противник, враг теоретических принципов Мичуринской
селекции.
Обращаясь к молодежи, восьмидесятилетний Мичурин призывал молодых
исследователей спорить с ним, а если у оппонентов есть свои собственные
проверенные наблюдения, то, не стесняясь, опровергать его взгляды.
Спорить с учителями – великая традиция науки. Позволительно даже утверждать,
что только в противоборстве с прежде установленными истинами и развивалось от
века человеческое знание. Именно несогласные, упрямцы, готовые подвергнуть
проверке любой тезис предшественников, достигли в науке всего.
Вавилов был из упрямцев. Чувство критики не покидало Николая Ивановича при
общении с самыми знаменитыми исследователями. Обучаясь в Англии, он высказывал
свое несогласие с Дарвином, исписывая обложки и поля книг великого биолога
весьма резкими замечаниями. Даже любимый учитель Вильям Бэтсон не избег
нелицеприятной критики дотошного ученика. Короче: в научных спорах Вавилов на
лица не взирал. Вавилов как крупный биолог-теоретик с одобрением относится к
практическим достижениям селекционера Мичурина. Но при этом он откровенно
обнажает ряд ненаучных, слабых мест мичуринской теории. Вавилов заметил, что в
работах Мичурина биологические теории по существу играют очень малую роль. Как
и американец Лютер Бербанк, селекционер из русского города Козлова очень
многого добился в своем саду за счет своей интуиции и огромного опыта. Да
Мичурин и сам, как всякий крупный исследователь и человек, никогда не выдавал
свои взгляды за истину последней инстанции. В той самой первой своей книге,
что была издана при участии Вавилова, Иван Владимирович писал: «Я нисколько не
претендую на какую-то выставку новых открытий или на опровержение каких-либо
установленных авторитетами науки законов, я только излагаю мои заключения и
доводы на основании личных, практических моих долголетних работ в деле
выведения новых сортов плодовых растений, причем, очень может быть, впадаю в
некоторых случаях в ошибки неправильного понимания различных явлений и жизни
растений и приложения к ним хотя бы законов Менделя и других учений последнего
времени, но такие ошибки неизбежны при всяких работах, большого значения иметь
не могут, так как впоследствии, вероятно, будут исправлены другими деятелями».
(14, стр. 88-89)
 Нет, Мичурин не мог обижаться на своего научного оппонента академика
Вавилова. Читая полные благородства строки Ивана Владимировича о тех, кто с
полным правом придет, чтобы исправить его ошибки, понимаешь: это традиция,
великая традиция науки. Здесь приглашают к спору, но не к ссоре, к
возражениям, но не к драке.
Нет, Мичурин не мог обижаться на своего научного оппонента академика
Вавилова. Читая полные благородства строки Ивана Владимировича о тех, кто с
полным правом придет, чтобы исправить его ошибки, понимаешь: это традиция,
великая традиция науки. Здесь приглашают к спору, но не к ссоре, к
возражениям, но не к драке.
 В громокипящей натуре Вавилова явная научная страсть мешается с тайным
российским патриотизмом, сложная эта душевная химия превращает ботаника в
экономического агента, путешественника – в разведчика, а ученого-лектора – в
откровенного политического пропагандиста». (14, стр. 109-110)
Вавиловские публичные доклады за рубежом более всего говорят о двойственности
ученого. Доклады о достижениях советской агрономической науки читались в
присутствии министров, членов кабинета, крупных чиновников, их широко
комментировала пресса. Несомненно, что они оказывали благотворное влияние на
отношение Запада к Советскому Союзу. Посольские работники хвалили Вавилова.
«После 1930 года, когда положение в советском сельском хозяйстве сильно
ухудшилось, а мировая пресса писала о голоде в СССР, ученый умело обходил
острые углы и в своих речах напирал в основном на победы отечественной генетики
и физиологии растений. Но Вавилов знал и о том, что в деревне люди мрут от
голода, а на колхозных полях, как он сам заметил, объезжая страну летом 1932
года, «культивируют не пшеницу и ячмень, а сорняки». И тем не менее речи
президента ВАСХНИЛ в США и Канаде осенью 1932 года по-прежнему повествуют лишь
о победах. Но Николай Иванович очень удивился бы, если в те дни кто-нибудь стал
бы уличать его в политиканстве. Лично для себя он ничего не искал. А дело
, наука российская в результате его докладов только выгадывали». (14, стр.110)
Но уже в начале 30-х годов над советской генетикой и Н.И. Вавиловым начинают
сгущаться тучи. И тем не менее, судьба Вавилова не была бы столь трагической,
если бы не появление зловещей фигуры Трофима Лысенко.
В громокипящей натуре Вавилова явная научная страсть мешается с тайным
российским патриотизмом, сложная эта душевная химия превращает ботаника в
экономического агента, путешественника – в разведчика, а ученого-лектора – в
откровенного политического пропагандиста». (14, стр. 109-110)
Вавиловские публичные доклады за рубежом более всего говорят о двойственности
ученого. Доклады о достижениях советской агрономической науки читались в
присутствии министров, членов кабинета, крупных чиновников, их широко
комментировала пресса. Несомненно, что они оказывали благотворное влияние на
отношение Запада к Советскому Союзу. Посольские работники хвалили Вавилова.
«После 1930 года, когда положение в советском сельском хозяйстве сильно
ухудшилось, а мировая пресса писала о голоде в СССР, ученый умело обходил
острые углы и в своих речах напирал в основном на победы отечественной генетики
и физиологии растений. Но Вавилов знал и о том, что в деревне люди мрут от
голода, а на колхозных полях, как он сам заметил, объезжая страну летом 1932
года, «культивируют не пшеницу и ячмень, а сорняки». И тем не менее речи
президента ВАСХНИЛ в США и Канаде осенью 1932 года по-прежнему повествуют лишь
о победах. Но Николай Иванович очень удивился бы, если в те дни кто-нибудь стал
бы уличать его в политиканстве. Лично для себя он ничего не искал. А дело
, наука российская в результате его докладов только выгадывали». (14, стр.110)
Но уже в начале 30-х годов над советской генетикой и Н.И. Вавиловым начинают
сгущаться тучи. И тем не менее, судьба Вавилова не была бы столь трагической,
если бы не появление зловещей фигуры Трофима Лысенко.
Часть 3
Осада Вавилона
(Конфронтация Вавилов – Лысенко)
Если научные исследования ведутся с целью материальных выгод, они получают эгоистический оттенок. если цель исследований – стремление к власти, то они могут стать даже общественной опасностью и привести к ученому варварству. Р.А. Грегори, «Открытия, цели и значение науки», перевод с английского под редакцией Н.И. Вавилова, 1923 год (14, стр.137) Воевать с «распутиниадой» - самая трудная вещь в нашей жизни. Н.И. Вавилов, 1938 год Вопреки названию части работы, я хотел бы начать рассмотрение кризиса советской науки не с лысенковщины, а с несколько более раннего периода. Несмотря на то, что большинство исследователей связывают упадок отечественной генетики преимущественно с именем Т.Д. Лысенко, на мой взгляд, он имеет более глубокие корни. Процесс разложения научного общества являлся одним из факторов становления тоталитаризма в СССР, а Лысенко суждено было стать его символом, но не двигателем. «Еще в 1930-1931 годах Вавилов не понимал, отчего так быстро бюрократизируется ВАСХНИЛ, почему к руководству сельхознаукой приходят не серьезные ученые, а какие-то малограмотные и крикливые субъекты. Следующие 3- 4 года многому его научили. Начали выявлять себя трагические последствия коллективизации, прошла волна арестов среди биологов, агрономов, ветеринаров. Специалистам предстояло держать ответ за развал в сельском хозяйстве. В ВИРе арестовали 18 ведущих сотрудников. Те невинные шалости, которые сходили с рук Николаю Ивановичу во время его заграничных командировок в 20-е годы, берутся на заметку в начале 30-х. возвращаясь из Америки в феврале 1933года, он, как всегда, встретился со старыми друзьями из Пастеровского института, профессором Метальниковым и Безредкой. И тотчас в Москву помчался донос: «Вавилов встретился с белоэмигрантами». По приезде ученого вызвали в ЦК. Вавилов принял известие с недоверчивой улыбкой: «Пустяки все это. В ЦК неглупые люди сидят, разберутся». И хотя мы не знаем какой разговор произошел на следующий день в Центральном Комитете ВКП(б), но зато доподлинно известно, что путь за границу великому путешественнику был заказан навсегда». (14, стр. 111-112) Вскоре после этого «Правда» резко выступала против ВИРа и его директора. Главное обвинение заключалось в том, что Институт растениеводства якобы не занимается практически полезным делом, не дает стране новых сортов. Мысль о том, что микроскоп вполне пригоден, чтобы им забивали гвозди, была высказана в ЦК партии еще до того, как Лысенко начал свой победоносный поход на теоретическую науку. Вскоре разыгрались события еще более серьезные. С лета 1934 года в ВИРе шла подготовка к торжественному празднованию – к 10- тилетию института, к 40-летию той лаборатории, на базе которой ВИР возник. К 25-летию научной деятельности его директора. В Ленинграде ждут гостей, в том числе много иностранцев. В ВИР потоком идут приветственные телеграммы от ведущих биологов мира, пришли поздравления от председателя совета министров Турции, от министра земледелия США, Болгарии, Финляндии, Польши. И вдруг за 4 дня до срока торжество без всякого объяснения отменено. Вавилов потрясен. Он пишет письмо Я.А. Яковлеву, бывшему Наркомзему, занимающему пост заведующего отделом сельского хозяйства в ЦК. В Наркомземе новое лицо – Чернов. Вавилов исправляет обращение на «Уважаемый Матвей Александрович» и сам везет письмо для личного вручения наркому. Ответа на него получить так и не удается. Чернов уходит вслед за Яковлевым в тюрьму, в могилу. «Именно тогда, очевидно, Вавилов понимает, что быть просто хорошим ученым – недостаточно. Недостаточна и та политическая плата, которую он до сих пор вносил для блага своего научного дела. Рождается страшная догадка: в какой-то миг фантасмагория необъяснимых арестов и безрассудных расстрелов может коснуться и его, Вавилова, президента ВАСХНИЛ и члена ЦИК. Он отталкивает от себя ужасный домысел: ведь он ничего не делал такого. А что непозволительного сделал его заместитель по институту, честнейший селекционер В.Е. Писарев? Чем виноваты кристально чистый цитолог Г.А. Левитинский, профессора Максимов, Таланов, Сапегин и десятки других? Еще далек вроде бы 1937 год; еще не знает Вавилов, что заведено на него «Дело», куда подшиты первые доносы. Но тайный страх уже поселяется в сердце бесстрашного путешественника. Он рос, матерел, застилал горизонт. На годы вперед протянулись от него корни-щупальцы к каждому поступку, каждому высказыванию ученого. Тоталитарный режим оттого и именуется тоталитарным, что каждого даже самого нейтрального гражданина стремится сделать пособником своих преступлений, всех и каждого старается запачкать в крови своих жертв, всех сковать круговой порукой соучастия. Для этого служат массовые политические митинги, на которых гражданина заставляют распинаться в преданности режиму, и «письма протеста» против действительных и фальшивых врагов. Иногда властям нужны, наоборот, - «письма в поддержку», и, как и прочие процедуры, эта превращается в испытание прчности гражданина. Чем выше на общественной лестнице стоит гражданин, тем труднее ему уклониться от порочащих его публичных заявлений. Между тем именно писатели, артисты, ученые наиболее лакомы для чиновника; заявление о верности особенно важно получить от них, от этих сливок общества». (14, стр. 113-115) Год 1937 был годом непрерывных присяг на верность. 28 января в центральных и республиканских газетах, среди других подобных призывов, появилось письмо, озаглавленное: «Мы требуем беспощадной расправы с подлыми изменниками нашей Родины». Как и все такие письма, сочинение это не содержало фактов, а наполнено было только бранью, угрозами и клеветой. Несомненный интерес представляет список авторов этого сочинения. Публика собралась отменная: химик Бах, растениевод Келер, геолог Губкин, физиолог Сперанский, математик Лаврентьев и... генетик Вавилов. Думал ли этот генетик, что по иронии судьбы ровно через 6 лет, почти день в день, он сам, став врагом народа, будет умирать на тюремной койке? Другой пример. «В «благостные» 20-е годы молодой генетик Тимофеев-Ресовский обучался в Германии. Вавилов в те годы часто бывал в Берлине, и между двумя генетиками сложились сердечные отношения. После прихода к власти гитлеровцев Тимофеев-Ресовский начал собираться домой, но в 1937 получил из СССР предупреждение, что дома его ждет тюрьма, а может быть, и что-нибудь похуже. Автором записки был Николай Иванович Вавилов». (14, стр. 115) Таковы два поступка, совершенные ученым в одном и том же году. Такова «тактика и стратегия», к которой принуждал век-волкодав честного человека, вовсе не заинтересованного в личных благах или в успехе на ступенях карьерной лестницы. Эта игра спасала Вавилова от арестов 1937-1938 годов, но время, тем не менее, работало против него. Ему и в голову не могло прийти, что именно Лысенко власти готовят на его место; что малограмотному, но волевому агроному предстоит вытоптать у себя на родине все посевы, выращенные мировой и советской биологической наукой, а затем уничтожить и самих биологов. Трофим Денисович Лысенко – Герой Социалистического труда, кавалер семи орденов Ленина, трижды лауреат Сталинской премии, был, видимо, единственным в истории деятелем науки, заслужившим титул «великий» еще при жизни. Его портреты висели почти во всех научных учреждениях, в художественных салонах продавались бюсты «народного академика». Государственный русский хор исполнял величальную «Слава академику Лысенко», в песеннике Сальникова (тираж 200000 экземпляров, 1950 год) были частушки: Веселей играй, гармошка, Мы с подружкою вдвоем Академику Лысенко Величальную поем. Он мичуринской дорогой Твердой поступью идет, Морганистам, вейсманистам Нас дурачить не дает! Трофим Денисович Лысенко был на 11 лет моложе Вавилова. Он родился на Украине в селе Карповка в 1898 году. Учился в школе садовода и в Сельскохозяйственном институте в Киеве, работал на Белоцерковской опытной станции. С 1925 года работал он в азербайджанском городке Ганджа, ведал в Институте хлопка бобовыми и высевал их чуть ли не через 5 дней в течение всего года. На полях того же института ставили свои опыты вировцы. Профессор Вавилов слышал от них об экспериментах Лысенко и живо заинтересовался этими опытами. Надо заметить, что уже тогда (ему не было еще и тридцати) Лысенко умел производить на людей впечатление личности незаурядной «Длинный, худой, весь постоянно выпачканный землей. Кепку надевает одним махом, и она у него торчит всегда куда-то вбок. Словом, полное пренебрежение к себе, к своей наружности. Спит ли вообще – неизвестно, мы выходим на работу – он уже в поле, возвращаемся – он еще там. Все время копается со своими растениями, все время с ними. К ним он очень внимателен. Знает и понимает их вообще прекрасно, кажется, умеет разговаривать с ними, проникает в самую душу их. Растения у него «хотят», «требуют», «любят», «мучаются».» Так писал своим родным в декабре 1928 года сослуживец, а в будущем близкий друг Лысенко Донат Долгушин. И в то же письме: «Это настоящий творческий ум, новые идеи так и прут из него. И каждый разговор с ним поднимает в голове вихрь интересных мыслей. Он всегда в своей работе, энтузиаст отчаянный. Наблюдателен невероятно». (14, стр. 89-90) И далее: «Многое из того, что мы проходили в институте, например о генетике, он (Лысенко) считает «вредной ерундой» и утверждает, что успех в нашей работе зависит от того, как скоро мы сумеем это забыть, «освободиться от дурмана». По поводу подобных воззрений друзья даже шутили: «Лысенко уверен, что из хлопкового зерна можно вырастить верблюда, а из куриного яйца - баобаб». (14, стр. 90) Вот что Д. Долгушин рассказывает о гипотезе Лысенко: «Он (Лысенко) установил, - и это не подлежит теперь никакому сомнению! – что все озимые растения, которым, как принято думать, необходим зимний покой для того, чтобы они в следующем году зацвели и дали семена, - на самом деле ни в каком «покое» не нуждаются. Им нужен не покой, а холод, сравнительно небольшая порция (но не ниже нуля1) пониженной температуры. Получив эту порцию, они могут развиваться без всякого перерыва и дадут семена. Но эта порция пониженной температуры может сыграть свою роль, даже когда растение еще не растение, а едва наклюнувшиеся зерно. Таким образом, если, например, семена озимой пшеницы слегка замочить и, продержав некоторое время на холоде, посеять весной, то они нормально разовьются и дадут урожай в то же лето, как настоящие яровые! Представляете себе, дорогие мои, что это значит? Сокращение вегетационного периода растений, перемещение многих культур на север и черт знает что еще! Это, несомненно, открытие и – крупного научного значения. Вот какой у нас Лысенко!». (14, стр. 90-91) Вскоре это агрономический прием стал известен как яровизация. Интересен случай, который привел Лысенко к его «гениальной» теории. Отец Трофима Денис Лысенко, украинский крестьянин, был кулаком. Когда в Умань прибыли продотряды, он, спасая свое зерно от разверстки, закопал 3 мешка пшеницы в овраг, в сугроб. Когда весной они были выкопаны, выяснилось, что зерно проросло и в пищу его употреблять нельзя. Разочарованный крестьянин на своем поле весной посеял одновременно яровую пшеницу и семена, пролежавшие ползимы под снегом. «Озимая» пшеница дала урожай в два раза больше, чем яровая. Денис Лысенко рассказал об этом своему сыну. Лысенко-младший поставил многочисленные эксперименты, по результаты которых подтвердили его догадку. И, не долго думая над теоретической основой, Трофим заявил во всеуслышание об открытой им теории яровизации. Ему было невдомек, что теория эта – отнюдь не новость: о «холодном проращивании» писал советский ученый Н.А. Максимов, а как агротехнический метод ее предлагал (и безуспешно) в середине 19 века американец Клипарт. Выводы Лысенко о световой стадии тоже сильно напоминали мысли о фотопереодизме Гарнера и Алларда. Несмотря на это, ряд практиков с восторгом принял результаты (ведь страна голодала). Но ученые советовали не торопиться и всесторонне исследовать новый агрономический прием, не обещали быстрых и определенных результатов. Поразительный портрет Лысенко оставил в газете «Правда» (август 1927 года) журналист В. Федорович. «Моя встреча с Лысенко случилась в Закавказье на великолепных полях Ганджинской селекционной станции. Лысенко решает и решил задачу удобрения земли без минеральных туков, обзеленения пустующих полей Закавказья зимой, чтобы не погибал скот от скудной пищи, а крестьянин-тюрк жил зиму без дрожи за завтрашний день. Если судить о человеке по первому впечатлению, то от этого Лысенко остается ощущение зубной боли, - дай бог ему здоровья, унылого он вида человек. И на слово скупой и на лицо незначительный, - только и помнится угрюмый взгляд его, ползающий по земле с таким видом, будто, по крайней мере, собирался он кого-нибудь укокать. Один раз всего и улыбнулся этот босоногий ученый: это было при упоминании о полтавских вишневых варениках с сахаром и сметаной»(4, стр. 362). Лысенковщина - явление социальное, одно из порождений сталинщины. Но как это ни парадоксально, возвышению этого лжеученого и авантюриста в некоторой степени способствовал сам Вавилов. Надо полагать, Вавилова привлекли в Лысенко те же черты, что и Долгушина: он любил самостоятельно мыслящих и увлеченных. О взглядах своего нового знакомца знал Николай Иванович очень мало, почти ничего. Он не знал, например, что агроном из Ганджи принципиально не читает мировую биологическую литературу (этому мешало, кроме прочего, незнакомство с иностранными языками) и особенно презрительно относится к исследованиям генетиков. Обычно нетерпимый к биологической неграмотности, Вавилов при первой встрече не обратил внимания на странные взгляды собеседника. Сильно заинтересовала его теория яровизации (хотя и слабее, чем Долгушина). Разная потребность растений в низкой температуре? Интересный факт, он позволит удобно классифицировать богатства ленинградской коллекции, лучше районировать сорта и культуры. Ни о каком продвижении южных растений на север пока нет и речи, но опыты Лысенко Николай Иванович оценивает как яркие и самобытные. Н.И. Вавилов предложил сотруднику Всесоюзного института растениеводства Н.Р. Иванову познакомиться с Лысенко и его исследованиями. Лысенко с горящими глазами, взволнованно рассказывал о своих работах. Н.Р. Иванов оценил молодого экспериментатора как смелого и талантливого, но малообразованного и крайне самолюбивого человека, считающего себя новым пророком в биологии. Н.И. Вавилов предложил пригласить Т.Д. Лысенко в ВИР и выделить ему лабораторию в отделе физиологии, обучить языкам и привить вкус к чтению научной литературы. Но ряд ученых не поддержали это решение: опыты Лысенко поставлены без учета влияния полевых условий, он не имеет печатных работ, не знаком с научной литературой. Опасаясь разлада в коллективе института, Н.И. Вавилов не стал настаивать на своем предложении. В 1929 г. На Всесоюзном съезде генетиков в Ленинграде выступил Т.Д. Лысенко с кратким изложением материалов недавно вышедшей книги, в которой были сформулирована теория стадийного развития растений: каждая стадия проходит в определенных условиях внешней среды; последующая стадия не может начаться, пока не кончится предыдущая. Экспериментального материала доклад почти не содержал и поэтому интереса у ученых не вызвал несмотря на поддержку Н.И. Вавилова. Лысенко же решил, что его умышленно «затирают», и начал бороться. Прошло еще 2 года. Лысенко перебрался из Азербайджана в Одесский селекционно- генетический институт, и перенес туда опыты, начатые в Гандже. В частном письме директор института Степаненко отмечает большое практическое значение опытов Лысенко и их перспективность. В этой обстановке президиум ВАСХНИЛ прежде всего принял к сведению, что яровизация практическое открытие. В другое время ученые, конечно, потребовали бы сначала проверить утверждение Лысенко на опытных делянках других научных учреждений. Но в 1931 году для этого попросту не было времени. Так, вопреки главному принципу биологической науки, поддержка и пропаганда нового открытия началась задолго до того, как кто-либо проверил опыты Лысенко. Мысль о том, что агрономическая наука дает стране зримые, конкретные блага, обрадовала, увлекла академиков. Ветер энтузиазма 30-х годов надувал в ту пору и не такие паруса. Иными словами в 1931 году агроном Лысенко и его яровизация оказались находкой для всех: и для администраторов и для ученых. А как относился к ней академик Вавилов? «Заинтересованный новым делом, ученый весной 1932 года сам едет в Одессу. Вместе с Лысенко они обходят поля института, ездят по колхозам. Николай Вавилов, естественно верит каждому слову своего спутника. Он уже распорядился поставить в ВИРе собственные опыты и проверить эксперименты Лысенко, но пока ему и в голову не приходит заподозрить агронома в нечестности, подтасовке фактов. В письме, посланном их Одессы в Ленинград, он восторженно говорит обо всем увиденном: «Работа Лысенко замечательна и заставляет многое ставить по-новому. Мировые коллекции надо проработать через яровизацию.» Эта мысль теперь приковывает к себе Николая Ивановича: изменить, укоротить период от посева до плодоношения у южных растений, продвинуть с помощью яровизации новейшие привозные сорта на север. Какого агронома не прельстит такая перспектива! Вавилов не видит тут никакого чуда. Очевидно, Лысенко открыл новые, неизвестные прежде в физиологии растений закономерности. Ну что ж, научная истина не находится ни в чьем монопольном владении. Как справедливо заметил еще Гарвей: «Открытия могут быть сделаны случайно, и любой может учить другого: юноша – старика, простец – разумного». Правда, в том же письме из Одессы есть и такие строки: «Ездил с Лысенко по колхозам и совхозам; много ошибок с яровизацией». Но Николай Иванович видит только ошибки, допущенные на местах. О том, что ошибкой может быть сама яровизация, пока еще никто не догадывается». (14, стр. 95) Вавилов настойчиво приглашает Лысенко приезжать в ВИР, проконсультировать ленинградских профессоров по физиологии растений. Известность агронома из Одессы нарастает, как снежный ком. Но он все еще скромен: день и ночь его видят на полях, у своих делянок. Он не боится признаться, что ему не хватает знаний в той области, которую он разрабатывает. Одарен. Это видят все, кто с ним сталкивается. И в первую очередь Вавилов. Он даже любит время от времени уколоть вировских физиологов и генетиков удачами одессита. Вот где энергия, вот у кого инициатива! Весной 1932 года, собираясь на 6-й Международный конгресс в США, президент ВАСХНИЛ составил список советской делегации. Рядом с докторами и профессорами генетики он поместил агронома Лысенко. Не ограничившись этим, Николай Иванович отправил письмо Трофиму Денисовичу с приглашением поехать в Америку, «где будет для генетика много интересного». Но на конгресс одесский специалист не поехал. Однако в своей речи Вавилов счел нужным сообщить ученым мира об успехах молодого агронома. Однако, доверяя Лысенко как своему коллеге, Николай Иванович с конца 1931 года предложил всем опытным станциям ВИР, где проводились так называемые географические посевы, испытать эффективность яровизации. Но проверка в растениеводстве – дело не простое и не скорое. Каждый опыт требует года-двух, а то и больше. Чтобы точно оценить влияние яровизации на различные культуры в разных районах страны, нужны годы и годы. А пока на делянках выяснялась истинная ценность лысенковских идей, сам Лысенко быстро восходил в научный зенит. В 1932 году Николай Иванович хлопочет перед президентом Всеукраинской академии наук А.А. Богомольцем, чтобы Лысенко избрали в члены академии. Год спустя – еще одно ходатайство, адресованное в Комиссию содействия ученым при СНК СССР: Вавилов рекомендует агронома Т.Д. Лысенко в качестве кандидата на премию 1933 года за открытие яровизации. В 1934 году все тот же Вавилов обращает внимание Биологического отделения АН СССР на исследования Лысенко: «Хотя им (Лысенко) опубликовано еще сравнительно немного работ, но последние работы по значению представляют настолько крупный вклад в науку, что позволяют нам выдвинуть его кандидатом в члены-корреспонденты Академии наук СССР». (14, стр. 97) Докладывая в мае 1934 года в СНК о достижениях ВАСХНИЛ, президент Академии им. Ленина снова подчеркивает ценность научных открытий Лысенко. Это постоянное возвеличивание заслуг одесского растениевода вскоре дало свои плоды: на Лысенко обратили внимание высокие должностные лица. В Одессу зачастили гости из столицы Украины, а потом и из Москвы. Ученый из крестьян всем нравится – и анкетой, и своими высказываниями он на редкость точно соответствует требованиям времени. Народный комиссар земледелия СССР Я.А. Яковлев даже предоставил ему своеобразную привилегию: Лысенко мог по любому поводу обращаться лично к наркому. Лысенко не пренебрег такой возможностью, в 1932-1933 годах он часто пишет Яковлеву по разным незначительным поводам. Просьбы его, как правило, выполняются. Нарком явно заинтересован работами Лысенко, он лично заказывает агроному статью о яровизации для советского павильона на выставке в Кенигсберге, лает в 1932 году указание распространить яровизацию в совхозах и широко внедрять ее в колхозах. Лично я, изучая взаимоотношения Н.И. Вавилова и Т.Д. Лысенко в 1929-1935 годах, терзался вопросом: неужели Николай Иванович был так наивен, даже слеп, что сразу не признал в «одессите» дилетанта, и даже более того, жулика? Наиболее исчерпывающий ответ дает, на мой взгляд, Марк Поповский. «Повторение своей безграничной любви к науке биолог надеялся увидеть и в других. Увы, доверчивость и легковерие превратились для президента ВАСХНИЛ в подлинное бедствие. В начале 30-х годов стала формироваться довольно обширная категория людей, обретших в науке кормушку и одновременно трамплин на пути к власти. Вавилов пропустил тот момент, когда для этого нового типа людей у нас в стране сложились наиболее благоприятные условия. Он жил в мире науки, в мире творчества и попросту не думал о жуликах. В начале 30-х годов Лысенко был для Николая Ивановича только молодым, энергичным специалистом, создателем довольно интересной теории стадийного развития растений и метода яровизации. Были, однако, во взаимоотношениях Вавилова и Лысенко также и иные факторы. Интеллигенту в 20-х – начале 30-х годов каждодневно, ежечасно давали понять, что он – гражданин второго сорта. В газетах, книгах, кинофильмах центральной фигурой является рабочий, пролетарий, на крайний случай крестьянин-колхозник. Интеллигентов же корили за отсутствие твердости («хилые интеллигенты»), за симпатии к растленному Западу и даже просто за галстук и белый воротничок, за очки и шляпу. В то время как пролетарское происхождение распахивало двери к высшим должностям, в учебные заведения, в науку, служащий или сын служащего, врач, инженер представлялись если не скрытыми врагами, то, во всяком случае, лицами подозрительными. В ВИРе, например, существовала даже специальная аспирантура, где из не очень-то грамотных, но вполне чистых по классовому составу юнцов приказано было срочно готовить «ученых» – будущих руководителей учреждений и предприятий. Учебные и научные требования к этой молодежи предъявлялись минимальные. Зато права этим юнцам выданы были более чем достаточные; в частности, они имели право сменить не понравившегося научного руководителя. Подверженные «классовому» давлению, оглушаемые болтовней о «классовой науке», многие профессора, кто со вздохом, кто хмурясь, а кто и посмеиваясь в кулак, выполняли в те годы «социальный заказ» - выдвигать смену из самых низов. В конце концов такой «классовый2 подход, который насильственно стирал разницу между умными и дураками, стал обыденным делом, что старая профессура начала даже убеждать себя в очевидной разумности именно такого подбора научных кадров. Интеллигент-ученый или нашел для себя теоретическое оправдание в духе «осознанной необходимости», или просто махнул рукой на причуды эпохи. Я думаю, что сознательно или бессознательно нечто подобное пережил и Николай Иванович Вавилов. У себя в институте он сквозь пальцы смотрел на буйных и ленивых недорослей из спецаспирантуры. Когда же на горизонте появился Лысенко со своей великолепной анкетой и многочисленными идеями, Николай Иванович, вероятно, даже обрадовался: агроном выглядел энергичным, работающим, одаренным – такого и поддержать не грех». (14, стр. 99-100) К стати сказать Лысенко очень скоро уразумел все выгоды вытекающие из его анкетных данных. Поощрения свыше, газетные панегирики быстро начинают портить характер недавно еще скромного агронома. Он становится заносчивым, грубым, самомнение его растет буквально по часам. Тогда же происходит и другое важное (если не сказать важнейшее) событие в жизни Трофима Лысенко: он познакомился с Исаем Презентом. «Исай Израилевич Презент никогда не изучал биологию. Он окончил в конце 20-х годов трехгодичный факультет общественных наук при ленинградском университете, где естественные дисциплины не преподавались. Тем не менее, Презент решил полем своей философской деятельности избрать биологию. Несколько лет он тщетно пытался пристроиться к какому-нибудь крупному ученому с тем, чтобы в качестве философа теоретически осмыслять чужие научные идеи. В 30-х годах такое «осмысление» было занятием довольно распространенным. Но начинающему философу никак не удавалось прилепиться к достаточно крупному «шефу». Подступался он со своими предложениями, между прочим, и к Вавилову, но Николай Иванович «словесников» не любил, и Презент в ВИРе не задержался. Для Лысенко такая фигура, как Презент была находкой. Одесский агроном поднимался по общественной лестнице все выше и выше. На новых высотах нужно было закрепляться. Для этого следовало иметь какие-то общие идеи, теоретические взгляды. Надо было явить себя ученым. У Лысенко, не знакомого с элементарной биологией, для этого было слишком мало данных. Можно не сомневаться: если бы не встреча с Презентом (она произошла, очевидно, в начале 1932 года), Лысенко увял бы на своих делянках точно так же, как увяли и ушли в безвестность многие «новаторы» тридцатых и более поздних годов. Встреча с Презентом все изменила. Хитрый, не лишенный способностей, философ быстро смекнул, сколь выгодно ему стать глашатаем выходящего на волну агронома. Понял он и то, что, спекулируя на практицизме и огульно отрицая генетику и вообще всякую биологическую теорию, Лысенко долго на поверхности не продержится. Надо было в качестве поплавка дать ему какую-то собственную позитивную программу. И Презент принялся кроить такую программу. Дилетант в науке, не знакомый с новыми открытиями в биологии, он легче всего понял взгляды Ламарка. В 30-х годах20 столетия они уже не доживали, а отживали свой век. Однако, легкодоступная истина о том, что, изменяя внешние условия, в которых живет растение или животное, мы можем соответственно (адекватно) изменять его наследственные свойства, показалась Презенту наиболее подходящей для философской платформы Лысенко. Ламаркизм не только легко было понять даже профану, он легко вписывался в потребность эпохи. Нарком Яковлев требовал от ученых «революционизировать жизнь животных и растений». Жан-Батист Ламарк из своего далека»подсказывал», как это сделать. Не забыл Презент и Дарвина: творца теории происхождения видов одобряли классики марксизма. Но так как учения Дарвина и Ламарка не вязались между собой, то философ ввел понятие «творческий дарвинизм» и начал приспосабливать великого эволюциониста к условиям эпохи реконструкции и коллективизации. Позднее, когда умер Мичурин, Презент добавил в свою философскую окрошку кое-что из работ всеми уважаемого садовода. Сделал он это с присущей ему решительностью. Одобрил в трудах Мичурина все, что ближе всего подходило к взглядам Ламарка, а все остальное замолчал, как будто даже и не заметил. Так были подняты и объявлены гениальными опыты Ивана Владимировича по так называемой вегетативной гибридизации. Одобрения Презента заслужили также ошибочные взгляды Мичурина на решающую роль внешней среды при формировании наследственных признаков. В своих статьях Презент стал утверждать даже, что Мичурин исправил, улучшил Дарвина. Возник термин «мичуринский дарвинизм». Смысла он никакого не содержал, но выглядел очень политично». (14, стр. 101-102) Надо сказать, презентовская теория «мичуринского дарвинизма» подоспела как раз вовремя: в 1931-1935 годах наиболее серьезные биологи страны все чаще стали задумываться над странной карьерой Лысенко в науке. Одних настораживали опыты, предпринимаемые без всякого контроля сразу на тысячах гектаров. Других возмущали грубые по форме и неграмотные по содержанию статьи Презента и Лысенко, направленные против проверенных фактов генетики, против крупнейших экспериментаторов мировой науки. Отечественную общественность увещевали такие крупные светила науки, как академики Завадовский, Мейстер, Лапин, даже президент ВАСХНИЛ Муралов (недавно назначенный на место Вавилова) и вице- президент Бондаренко. «Единственным защитником Лысенко в то время оказался Вавилов, одобрявший научное направление одесского института. «Лысенко, - сказал Николай Иванович, - осторожный исследователь, талантливый, его эксперименты безукоризненны». Что это было? Затянувшееся заблуждение? Или правы некоторые бывшие сотрудники, которые утверждали, что смещенный с поста вчерашний президент ВАСХНИЛ уже не был свободен в своих публичных оценках? Мне более достоверным кажется первое утверждение. Николаю Ивановичу, когда того требовала польза дела, случалось быть и дипломатом. Но науку, самую истину он никогда не предавал. В крайнем случае Вавилов мог бы промолчать. Публично он отстаивал только то, во что верил. Впрочем, в 1935 году, обласканный верхами, снабженный теоретической программой, Лысенко мог игнорировать недовольство ученой коллегии. Тем более что сам он только что оказался академиком ВАСХНИЛ. Читать мировую биологическую литературу? В тридцать пятом он уже может позволить сказать этим книгочеям: «наша первая задача – освоить богатейшее научное наследие Мичурина, величайшего генетика. А мы в первую голову требуем, сколько прочел иностранных книжек». В другой раз он высказывается еще более откровенно: «Получше знать меньше, но знать именно то, что необходимо практике, как на сегодняшний день, так и ближайшее будущее». (14, стр. 104-105) Яровизацию Лысенко объявил верным средством сегодня же поднять урожаи пшеницы по всей стране. Замоченные перед посевом семена, по его словам, должны дать прибавку урожая не меньше центнера на гектар. Перемножив этот гипотетический центнер на все сто миллионов гектаров, занятых под хлебами в Советском Союзе, агроном начал в газетах и по радио сулить стране дополнительные эшелоны хлеба почти без всяких затрат. Яровизация объявлена главным методом, который принесет стране изобилие. Проверка? Он считал, что лучшая проверка – испытание метода прямо на полях, на миллионах гектаров. Он даже объясняет, что такое новшество стало возможно только в нашей стране, глее опытным делом займутся сотни тысяч колхозников. Напористый ученый требовал вывести науку на поля, обещал быстрое повышение урожайности, а осторожные ученые, руководимые Н.И. Вавиловым, занимались теорией, издавали тома «Трудов по прикладной ботанике». Началась критика за «оторванность от жизни», «бесплодность», «противоречия дарвинизму». Вавилов, бесконечно терпимый к инакомыслию, пытался убедить оппонентов, а они разоблачали его, причем не в научных дискуссиях, а в сенсационных выступлениях в газетах, дискредитирующих Н.И. Вавилова и его работу. А что мешало всей сознательной научной общественности разоблачить самого Лысенко? Ответ прост: сам Лысенко. Поток его идей неисчерпаем. Предложения следуют одно за другим с интервалом всего лишь в несколько месяцев после эпопеи с яровизацией он объявляет, что совершенно необходимо переопылять пшеницу внутри одного сорта, это-де тоже даст колхозникам большую прибавку урожая. В кампанию вовлечены 2 тысячи колхозов, планируется вовлечение еще 70 тысяч. Проходит немного времени, и переопыление оставлено, зато с таким же энтузиазмом Лысенко твердит в печати и по радио о необходимости всенародной борьбы за стопудовый урожай проса. Просо – культура больших возможностей. Просо, просо. Но проблема летних посадок картофеля на юге вытесняет и разговоры о просе, и крики о переопылении пшеницы. Внешние действия всевластного агронома всегда соответствовали истинным потребностям времени. Лысенко брался разрешить самые главные, коренные проблемы земледелия, оперируя при этом точными расчетами. В эпоху больших цифр его выкладки выглядели очень достоверно. А подлинные итоги? Их трудно учесть в обстановке, когда одного за другим арестовывают наркомов земледелия, заведующих отделом сельского хозяйства ЦК, президентов ВАСХНИЛ. «Враги народа» повсюду. И, конечно же, в сельском хозяйстве. Их ищут и находят. Находят и списывают на них все промахи, просчеты, ошибки и просто глупости. Списывают и результаты опытов Лысенко. Вавилов же совершил непростительную политическую ошибку, когда еще в 1929 году, после Всесоюзного съезда генетиков, отказался прислать личное приветствие И.В. Сталину, послав вместо этого приветствие руководителям правительства. С этого момента можно говорить о личной антипатии Сталина по отношению к Вавилову, что в дальнейшем сыграет значительную роль в его судьбе. Отвернувшись от Вавилова, вождь повернулся к Лысенко. Глава «прогрессивной биологии» становится любимцем Сталина. Сталину импонирует его размах, смелость опытов (Восемьсот тысяч пинцетов для колхозников, занятых внутрисортовым скрещиванием! масштаб!). Но есть у Трофима Денисовича и другие черты, которые Сталин любит у своих подданных. Человек из народа, сын крестьянина, Лысенко ведет споры, крепко держась за цитаты Маркса, Энгельса и прежде всего самого Сталина. Его взгляды материалистические, значит правильные. Все другие взгляды идеалистические и, следовательно, неправильные. Ни одной речи Лысенко не произносит без здравицы в честь советской власти, советской науки, советского «мичуринского дарвинизма» и, конечно же, поясных поклонов отцу народов, корифею науки – товарищу Сталину. «Очевидно, Сталину импонирует и то, что идеи Лысенко просты и понятны. Для малокультурного человека понятное утверждение всегда кажется достоверным. А утверждения молодого агронома не только популярны, но великолепно вписываются в философскую систему самого Сталина. Достаточно изменить условия существования организма, и он не только сам изменится определенным образом, но детям, внукам и правнукам своим передаст закрепленные при этом превращения. Так говорит Лысенко. А товарищ Сталин и сам вещает: стоит изменить экономические отношения между людьми, и немедленно преобразуется вся человеческая порода, изменятся жизненные принципы, вкусы, нравы, общественные и личные отношения. Многозначительное совпадение взглядов агронома Лысенко и «великого садовника» Сталина со временем породило на отечественной почве весьма горькие плоды. Сталину Лысенко подходил и как личность: энергичен, активен и в то же время абсолютно послушен. Именно таких людей Сталин ценит больше всего. Самых послушных использует он в качестве «фюреров» той или иной области научной или общественной жизни. Так во главе советской литературы стоял многие годы писатель Александр Фадеев, чей «Разгром» полагалось считать классическим; во главе художников поставлен был Александр Герасимов, писавший портреты вождей. Были свои «фюреры» в металлургии (Бардин) и в кино (Большаков), в авиации и журналистике. «Фюрером» сельского хозяйства и биологии Сталин назначил Трофима Лысенко, выходца из крестьян, преданного вождю собачьей беспредельной верностью. Сталин непрерывно одаривает Лысенко знаками своего расположения. Его награждают орденами и избирают в депутаты Верховного Совета. Начиная с 1935 года не проходит ни одного всесоюзного совещания по сельскому хозяйству, где бы «народный ученый» не давал основополагающих рекомендаций по всем вопросам земледелия – от селекции до удобрений. Любимец Сталина, он становится лицом, не доступным критике. От былой скромности агронома не осталось и следа. Раболепие последователей, огромные полномочия делают его совершенно нетерпимым к чужой научной идее. Впрочем, сама наука для него становится теперь только источником вожделенной власти». (14, стр. 119-120) Самое решительное «нет» было сказано лысенковцам на 4-ой сессии ВАСХНИЛ в декабре 1936 года. Видные селекционеры: П.Н. Константинов, П.И. Лисицын, А.П. Шехурдин – впервые публично объявили о полной несостоятельности лысенковских агрономических теорий, указывая на губительность массового переопыления и сомнительный эффект яровизации. Лысенко (наш главный дарвинист!) был вынужден публично извиниться перед Сталиным и признаться, что из Дарвина знает «только то, что человек произошел от обезьяньего предка». Тогда же американским ученым Германом Меллером были сказаны памятные слова: «Стоящий перед нами выбор аналогичен выбору между знахарством и медициной, между астрологией и астрономией, между алхимией и химией». (14, стр.122) Выступал на той сессии и академик Вавилов. Но доклад его, умный, честный, как всегда богатый интересными фактами, не удовлетворил ни друзей, ни врагов. И те и другие видели, что ученый только обороняется. Его поразили и изумили беззастенчивая ложь лысенковцев, их вопиющая необразованность в элементарных вопросах биологии. Надо было уличить их в элементарном жульничестве, указать на безнравственное, антиобщественное поведение тех, кто передергивает в опытах и крушит своих противников с помощью политических доносов. Однако такая форма дебатов была Николаю Ивановичу глубоко противна. Обстановка научной сессии обязывала спорить только по научным вопросам и ни в коем случае не переходить на личности. Перешагнуть этот рубеж академик Вавилов не мог, не умел. Настало время подлинного триумфа Лысенко. Речь, произнесенная в 1937 году «босоногим ученым» на Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников, весьма пришлась по душе И.В. Сталину. Спор, развернувшийся к тому времени вокруг генетики и вообще положение в биологии, сам Лысенко охарактеризовал так: «На самом деле, товарищи, хотя яровизация, созданная советской действительностью, и смогла за довольно короткий период, за какие-то 4-5 лет, вырасти в целый раздел науки, смогла отбить все нападки классового врага, – а не мало их было, - но сделать надо еще много, товарищи, ведь вредители-кулаки встречаются не только в вашей колхозной жизни. Вы их по колхозам хорошо знаете. Но не менее они опасны, не менее они закляты и для науки. Так называемые представители генетики классической умалчивают о том, представителями какого класса они на самом деле являются. Немало пришлось кровушки попортить в защите во всяческих спорах с некоторыми, так называемыми учеными по поводу яровизации, в борьбе за ее создание, немало ударов пришлось выдержать в практике. Товарищи, разве не было и нет классовой борьбы на фронте яровизации? В колхозах были кулаки и подкулачники, которые не раз нашептывали крестьянам: «Не мочи зерно, ведь так семена погибнут». Было такое дело, были такие нашептывания, такие кулацкие, вредительские россказни, когда вместо того, чтобы помогать колхозникам, делали вредительское дело и в ученом мире, а классовый враг – всегда враг, ученый он или нет.» (4, стр. 362-363). Именно на эти слова генсек откликнулся аплодисментами: «Браво, товарищ Лысенко, браво!». Следом аплодисментами взорвался весь Кремль. Фразу Лысенко «Результат в науке, как и в революции, надо получать немедленно» можно считать его жизненным кредо. Народный академик завоевал доверие Сталина не только обещанием за 2-3 года вывести высокоурожайные, болезне- и морозоустойчивые сорта и накормить голодающий Союз, но и лозунгом «Перенести науку в колхозы!». «Нам не нужна келейная наука, - декларировал Лысенко, - Мы построим по всей стране хаты-лаборатории, и колхозники сами будут делать эту науку» (11). Сталин создал колхозы. Лысенко же признает детище Сталина плодородной почвой для научной деятельности, делая таким образом еще и неслабый комплимент вождю. Реакцию последнего предугадать нетрудно. Помимо того, при низком уровне земледельческой культуры тридцатых годов такие самодеятельные хаты-лаборатории действительно могли послужить для хлеборобов своеобразным ликбезом. Однако эту самодеятельность Лысенко в своих речах именует не иначе как «народной академией», способной внести в практику земледелия не меньше, а значительно больше, чем «городские» ученые. Он требует, чтобы контроль над каждым новым сортом и агрономическим приемом осуществляли теперь не исследователи в институтских лабораториях и на опытных делянках, а сами колхозники на своих полях и в хатах-лабораториях. Надо ли говорить, какой простор для всякого рода «научных» спекуляций открывало такое предложение. Тем временем травля Вавилова началась уже внутри Всесоюзного института растениеводства. В 1930 году при ВАСХНИЛ создается институт аспирантуры, который вскоре передается ВИРу. Однако аспирантура пополняется людьми с очень слабой подготовкой. Это группа аспирантов, а вместе с ними малоподготовленные и морально малоустойчивые молодые сотрудники, образовали в институте малую колонну лысенковцев. Они обвиняли Вавилова в отрыве от практики, в антидарвинизме и даже в реакционности. Когда Вавилов вернулся из экспедиции в США, Мексику и Центральную Америку, он застал в институте такой разгул клеветнических выступлений, что был вынужден обратиться в президиум ВАСХНИЛ и к народному комиссару земледелия Я.А. Яковлеву. После ареста ряда руководящих работников ВАСХНИЛ в газете «Соцземледелие» за 11 января 1938 года была опубликована статья «Оздоровить Академию сельскохозяйственных наук». В ней призывалось беспощадно выкорчевывать врагов народа, в списки которых попали такие ученые, как академик Н.И. Вавилов, А. С. Серебровский, М.М. Завадовский и П.Н. Константинов, которым инкриминировалось враждебное отношение к работам академика Т.Д. Лысенко. После вступления на президентский пост академик Т. Д. Лысенко в статье «На новых путях» («Правда», 1938, 9 апреля) заявил, что в «старом руководстве орудовали, ныне разоблаченные, враги народа». Газета «Соцземледелие» за 12 сентября 1938 года ставила перед ВАСХНИЛ такую задачу: «Нужно изгнать из институтов и станций методы буржуазной науки, которые всячески культивировались врагами народа, троцкистко-бухаринскими диверсантами, орудовавшими во Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук». Острие борьбы направлялось против еще «недобитых» генетиков классической школы. В начале 1939 года редактируемый Т.Д. Лысенко журнал «Яровизация» поместил статью И.И. Презента «О лженаучных теориях и генетике», в которой автор попытался провести надуманную параллель между работами Н.И. Вавилова и вздорными идеями философа – антимарксиста Дюринга. Интенсивная кампания против академика Н.И. Вавилова и его соратников не могла не отразиться и на положении в самом институте растениеводства, куда И.И. Презент стал часто наведываться в качестве эмиссара. Внутри института была создана антивавиловская группа. «Вавилон» хотели взорвать изнутри. Раскол в институте растениеводства усилился особенно после того, как заместителем директора Т.Д. Лысенко назначил молодого специалиста С.Н. Шунденко, не посчитавший с резкими протестами Вавилова, который считал Шунденко малоспособным работником и презирал его за угодничество по отношению к Т.Д. Лысенко. Группа Шунденко и Шлыкова всячески старалась навязать парторганизации ВИРа резолюцию об освобождении Н. И. Вавилова с поста директора. За период с 1924 по 1940 год в ВИРе было арестовано 18 ученых-биологов.
Несмотря на хлопоты директора, спасти Т.А. Максимову, С.И. Королева, В.П.
Кузьмина, А.А. Орлова и многих других не удается. Но разрушали «Вавилон» и
по-другому. Так, Ф.Х. Бахтеев, ученик Н.И. Вавилова на страницах между
народного журнала поведал, что в июне 1939 года Лысенко зазвал его к себе в
кабинет и напрямик предложил ему бросить своего учителя и начать научную
деятельность под его руководством. На решительный отказ Лысенко ответил:
«Думай, думай! Только не забывай, что у меня не так много времени для того,
чтобы тратить на разговоры с тобой!». (14, стр. 139)
ВИРу тем временем наносятся другие незаживающие раны. Ликвидировано
институтское издательство, в то же время лысенковцы захватили все
сельскохозяйственные издательства страны. Вавиловцы теряют возможность
публиковать свои работы.
За период с 1924 по 1940 год в ВИРе было арестовано 18 ученых-биологов.
Несмотря на хлопоты директора, спасти Т.А. Максимову, С.И. Королева, В.П.
Кузьмина, А.А. Орлова и многих других не удается. Но разрушали «Вавилон» и
по-другому. Так, Ф.Х. Бахтеев, ученик Н.И. Вавилова на страницах между
народного журнала поведал, что в июне 1939 года Лысенко зазвал его к себе в
кабинет и напрямик предложил ему бросить своего учителя и начать научную
деятельность под его руководством. На решительный отказ Лысенко ответил:
«Думай, думай! Только не забывай, что у меня не так много времени для того,
чтобы тратить на разговоры с тобой!». (14, стр. 139)
ВИРу тем временем наносятся другие незаживающие раны. Ликвидировано
институтское издательство, в то же время лысенковцы захватили все
сельскохозяйственные издательства страны. Вавиловцы теряют возможность
публиковать свои работы.
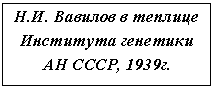 От института одна за другой «отходят» опытные станции. Такие станции в разных
климатических и почвенных зонах были необходимы для проверки и размножения
вировских растительных коллекций. Отторгаются украинская, белорусская,
воронежская, северодвинская, сухумская станции.. Вместе со станциями уходили и
лица, из которых каждый был незаменимым знатоком одной или нескольких культур
во всесветном масштабе. ВИР терял свое главное, столь дорогое Николаю
Ивановичу, качество – энциклопедичность.
Бюджет ВИРа трещит не только из-за «никому не нужных экспедиций». С 1937 года
Наркомзем резко снижает ассигнования на крупнейшее свое научное учреждение.
При осаде Вавилона начинает играть немалую роль финансовый таран.
До какой-то поры Вавилов воздерживался от прямых дискуссий, понимая, что
советская пресса, несомненно, поддержит не какого-то там профессора-буржуя,
на которого он походил, а выходца из крестьянской семьи. Такая терпимость
привела к тому, что Лысенко стал высказываться совсем просто: «Что это еще за
ген, кто его видел? Кто его щупал? Кто его на зуб пробовал?» А некто А.К.
Коль в статье, напечатанной в журнале «Природа», заявил: «Вавилов и его
сотрудники, посещая Абиссинию, Палестину, Северную Африку, Турцию, Китай,
Японию, Монголию и другие страны, интересовались не столько отбором наилучших
для Союза экотипов, как это делали американцы, сколько сбором морфологических
диковинок для заполнения пустых мест его гомологических таблиц».(4, стр. 363)
Вот начало статьи того же автора в газете «Экономическая жизнь» за 1931 год:
«Революционное задание В.И. Ленина обносить землю совземлю новыми растениями
оказалось сейчас подмененным реакционными работами по прикладной ботанике над
центрами происхождения растений. Под прикрытием имени Ленина окрепло и
завоевывает гегемонию в нашей сельскохозяйственной науке учреждение, насквозь
реакционное, не только не имеющее никакого отношения к намерениям Ленина, но
им классово чуждое и враждебное. Речь идет об Институте растениеводства
Сельскохозяйственной академии им. Ленина». (1, стр. 98)
Некто Г. Шлыков в журнале «Советские субтропики» писал: «Н.И. Вавилов
пытается спрятаться за одобрение его теории мировой, т.е. буржуазной,
литературой. Кому же неизвестно, что эта литература не признает научной
значимости марксизма-ленинизма, отрицает материалистическую диалектику?» И
дальше целая страница доказательств того, что вавиловский закон
гомологических рядов не только порождение буржуазной науки, но и научная база
фашистских расовых «драконовских законов». (14, стр. 135)
Вот цитата из статьи 1939 года: «Заморозив в своих 2-3 растительных кладовых
сотни тысяч подчас ценнейших для производства и селекционной работы растений,
работники ВИРа ревниво охраняют этот запас, как скупые рыцари, сидящие на
сундуках с золотом. Правда, иногда И.В. Мичурин получал от ВИРа несколько
штук семян или косточек кое-каких растений, но они, как правило, всегда были
невсхожи». (14, стр. 134)
В марте 1939 года во Всесоюзном институте растениеводства проходила выездная
сессия областного бюро секции научных работников, на которой состоялся
откровенный обмен мнениями, ярко выявивший противоречия, раздиравшие
сельскохозяйственную и биологическую науку.
Н.И. Вавилов спокойно и мужественно воспринимал критику. Осветив в своем
выступлении замечательные по своей значимости итоги работы института,
рассказов о внедрении в практику сельского хозяйства десятков новых сортов
различных растений (один только ячмень селекции ВИРа занимал в тот период
половину всех площадей под ячменем в СССР), Вавилов сжато, но очень ярко
охарактеризовал существо тех трудностей, перед которыми стояла наша наука:
«Крупным специфическим дефектом в нашей обстановке является разноголосица,
которая существует сейчас в науке, и это очень сложный вопрос. Мы большое
учреждение, охватываем громаду науки, вопрос о культурах, об их
распределении, об их введении в жизнь, о земледельческом освоении территории,
Вопрос сейчас идет не о всей громаде, вопрос идет о генетики, но участок стал
злободневным, ибо наши концепции очень расширились. Конечно, как всегда в
науке, вопрос решит прямой опыт, решат факты, однако это длительная операция,
особенно в нашем деле селекционном.
Надо сказать, что у нас здесь получается разноголосица очень серьезная.
Я не могу здесь на ней остановиться подробно, но скажу, что существует две
позиции: позиция Одесского института (последователи Лысенко) и позиция
ВИРа. Позиция ВИРа – это позиция современной мировой науки, в этом нет никакого
сомнения, науки, написанной не фашистами, а просто передовыми тружениками. И
если бы мы собрали здесь аудиторию, состоящую из самых крупных селекционеров,
практиков и теоретиков, то я уверен, что они голосовали бы с вашим покорным
слугой, а не с Одесским институтом. Это дело очень сложное. Приказом, хотя бы
Наркома, такое дело не решается. Пойдем на костер, будем гореть, но от своих
убеждений не откажемся. Говорю вам со всей откровенностью, что верил, верю и
настаиваю на том, что считаю правильным, и не только верю, потому что вера в
науке – это чепуха, но говорю о том, что я знаю на основании огромного опыта.
Это факт, и от этого отойти так просто, как хотелось бы и занимающим высокий
пост, нельзя. Положение таково, что какую бы вы ни взяли иностранную книгу,
все они идут поперек учению Одесского института. Значит, эти книжки сжигать
прикажете? Не пойдем на это. До последних сил будем следить за передовой
мировой наукой, считая себя настоящими дарвинистами, ибо задачи освоения всех
мировых ценностей, мировых растительных ресурсов, которые создало
человечество, могут быть выполнены только при таком подходе к делу, и те
клички, которые иногда тут даются, нужно сначала очень внимательно
продумывать. Генетика – это прежде всего физиологическая наука, и ее основная
задача состоит в том, чтобы переделывать организмы, для этого она и
существует. Но в ходе исследований она доказывает, что не так просто изменить
наследственную природу, пытались ее сломать и не сломали» (4, стр. 363-364).
Лысенко поддерживали сотни уверовавших в него агрономов – и в конфликт с
Вавиловым вошла лженаука.
Лысенко поддерживала партийная и государственная пресса – и в конфликт с
Вавиловым вошла мощная идеология.
Лысенко поддерживал нарком земледелия Яков Яковлев – и в конфликт с Вавиловым
вошли правительственные круги.
Лысенко поддерживал сам «вождь народов» - и в конфликт с Вавиловым вступила
самая безжалостная сила.
«С 1935 года Вавилова перестали избирать во ВЦИК. В том же году он,
основатель Сельскохозяйственной академии, вынужден покинуть пост президента
ВАСХНИЛ и остаться на должности лишь вице-президента. Чем выше поднимались
акции Лысенко, тем меньше ценили в Кремле Вавилова. На одном из совещаний,
где Сталин приветливо беседовал с Лысенко, он демонстративно вышел, когда
начал выступать Вавилов. Еще более откровенно продемонстрировал он свое
нерасположение к ученому Сталин в середине 30-х годов во время специальной
встречи. Генсек решительно заявил, что зарубежные поисковые экспедиции
ботаников никому не нужны, что многие ученые не думают об урожае, а
занимаются у себя в лабораториях и институтах ерундой. «Идите на выучку к
стахановцам полей!» - предложил Сталин Вавилову». (14, стр. 142-143)
Наконец, когда Вавилов 20 ноября 1939 года добился приема у Сталина, тот, не
предложив даже сесть великому ученому, саркастически заявил: «Ну что,
гражданин Вавилов, все тычинками и пестиками занимаетесь? А вот товарищ
Лысенко поднимает колхозные урожаи!». Тщетно Вавилов пытался втолковать
бывшему семинаристу мысль о необходимости развития фундаментальной науки, о
важности и перспективности работ ВИРа. Сталин резко оборвал наскучившую ему
лекцию: «Вы свободны, гражданин Вавилов». Они не поняли друг друга:
«Менделеев» биологии, умевший видеть за деревьями лес, и лучший друг
советских ученых, рубивший лес так, что щепки во все стороны света летели.
25 мая 1939 Президиум ВАСХНИЛ под председательством Т.Д. Лысенко рассматривал
отчет о работе Всесоюзного института растениеводства. Доклад о работах
института был сделан Н.И. Вавиловым. По предложению Т.Д. Лысенко этот отчет
не был принят, как наносящий вред сельскому хозяйству, хотя он ярко отражал
огромную работу, проделанную коллективом.
Заведомо клеветнические измышления высказывались сторонниками Т.Д. Лысенко и
на состоявшейся дискуссии по генетики, организованной журналом «Под знаменем
марксизма». Организатор дискуссии философ академик М. Митин подверг резкой,
малокомпетентной критики академика Н.И. Вавилова и его сторонников и провел
провокационную аналогию между дискуссией по генетике и дискуссиями против
«меньшевиствующего идеализма».
Вавилов Н. И. ответил ему глубокой и содержательной речью, проникнутой
заботой о судьбах советской науки и сельского хозяйства. Уже тогда Николай
Иванович предупреждал о многих серьезных трудностях, которые впоследствии
пережила наша наука. Н.И. Вавилов уже тогда предлагал ряд агроприемов,
которые были введены лишь спустя 15-20 лет, уже тогда говорил о необходимости
отрыва советской биологии от мировой науки.
Обладая огромной эрудицией опытом ученого, считая, что судьбы отечественной
биологии важнее его собственной судьбы, Н.И. Вавилов твердо отстаивал свои
позиции. Великий ученый определенно и четко вскрывал псевдоноваторский
характер «новой генетики». «Специфика наших расхождений, - говорил Н.И.
Вавилов, - заключается в том, что под названием передовой науки нам
предлагают вернуться, по существу к воззрениям, которые пережиты наукой,
изжиты, то есть к воззрениям первой половины или середины 19-го века». (15,
стр. 264)
Предложения о внедрении в СССР посевов гибридной кукурузы семенами,
получаемыми при скрещивании длительного самоопыляющихся линий, основывались
на успешном внедрении этого приема в США. Организационно внедрения этого
метода было подготовлено Н. И. Вавиловым и его сотрудниками. Однако внедрение
этого прогрессивного приема наталкивалось на резкое сопротивление Т.Д.
Лысенко, И.И. Презента и др.
Мужественная и принципиальная позиция академика Н.И. Вавилова, его стойкость
в защите своих научных убеждений стали основной помехой для полной победы
лысенкоизма. Против ученого было начато решительное наступление. В декабре
1939 года в центральной печати Вавилов был объявлен реакционером в науке.
«Вавилон должен быть разрушен» - эта фраза, приписываемая Презенту, кратко и
емко характеризовала действия Президиума ВАСХНИЛ.
На заседаниях Вавилов попросту третируется, на его голову сыплются мелкие
уколы, издевки, выговоры. Вот несколько типичных сцен.
«Вавилов докладывает о планах и достижениях своего института. С сожалением
признается в неудачах биохимической лаборатории.
Вавилов: Отличить чечевицу от гороха по белку мы до сих пор не умеем.
Лысенко (с места): Я думаю, что каждый, кто возьмет на язык, отличит чечевицу
от гороха.
Вавилов: Мы не умеем различать их химически.
Лысенко: А зачем уметь химически отличать, если можно языком попробовать?
....
Вавилов предъявляет заседанию пакет с семенами устойчивой к ржавчине
средиземноморской пшеницы. Надпись на пакете – по-латыни.
Вавилов (поясняя): Ботаническая наука международна, и поэтому наиболее
удобной терминологией является латынь.
Лысенко: Чтобы народ не понял.
Презент: Тогда и исследовать не надо». (14, стр.165-166)
К этому времени число доносов достигает неприличных размеров. Такие, как Е.
К. Эмме, писали доносы со страха или по принуждению, но другие, а их
большинство, писали по соображениям карьеры или просто из агрессивной
зависти. Один из наиболее гнусных доносов, датировался мартом 1939 года,
принадлежал старшему научному сотруднику ВИРа Г. Н. Шлыкову. "Просто трудно
представить, чтобы реставраторы капитализма пошли мимо такой фигуры, как
Вавилов, авторитетный в широких кругах агрономии, особенной старой", - пишет
он. Но самой страшной и, вероятно, решающей судьбе Вавилова была жалоба
Лысенко на него во время одного из приемов в Кремле. По некоторым данным, это
было в марте 1939 года. На этом приеме Лысенко дал ясно понять, что Вавилов
является помехой в его деятельности на пользу социалистическому хозяйству.
Ему удалось вызвать недовольство Сталина, а присутствовавший при этом Берия
сделал соответствующие "оргвыводы". Судьба Вавилова была решена. Почему же
его не арестовали тогда же? Есть все основания полагать, что арест затянулся
из-за предстоящего Международного генетического конгресса.
Летом 1939 года в Москве должен был состояться VII Международный генетический
конгресс, президентом которого еще в 1938 году был избран Вавилов. Тем не
менее новоявленный наркоминдел В.М. Молотов выносит официальный запрет на
проведение конгресса на территории СССР. Тогда конгресс решают перенести в
Эдинбург (Шотландия). Но Вавилову, несмотря на его обращение в Академию наук
и в правительство, было отказано в поездке. Президентом конгресса пришлось
избрать другого ученого - английского генетика, профессора Ф. Крю. На
открытие конгресса, обращаясь к его участникам, он сказал: "Вы пригласили
меня играть роль, которую так украсил бы Вавилов. Вы надеваете его мантию на
мои, не желающие этого плечи. И если я буду выглядеть неуклюже, то вы не
должны забывать: эта мантия сшита для более крупного человека". Что могло
быть большим свидетельством международного авторитета Вавилова, чем эти
слова? Неудивительно, что даже такой человек, как Берия, не решился
арестовать его в год проведения конгресса.
А руководимый Н.И. Вавиловым институт растениеводства стал объектом
грубейшего административного вмешательства со стороны Президента ВАСХНИЛ –
Т.Д. Лысенко.
От института одна за другой «отходят» опытные станции. Такие станции в разных
климатических и почвенных зонах были необходимы для проверки и размножения
вировских растительных коллекций. Отторгаются украинская, белорусская,
воронежская, северодвинская, сухумская станции.. Вместе со станциями уходили и
лица, из которых каждый был незаменимым знатоком одной или нескольких культур
во всесветном масштабе. ВИР терял свое главное, столь дорогое Николаю
Ивановичу, качество – энциклопедичность.
Бюджет ВИРа трещит не только из-за «никому не нужных экспедиций». С 1937 года
Наркомзем резко снижает ассигнования на крупнейшее свое научное учреждение.
При осаде Вавилона начинает играть немалую роль финансовый таран.
До какой-то поры Вавилов воздерживался от прямых дискуссий, понимая, что
советская пресса, несомненно, поддержит не какого-то там профессора-буржуя,
на которого он походил, а выходца из крестьянской семьи. Такая терпимость
привела к тому, что Лысенко стал высказываться совсем просто: «Что это еще за
ген, кто его видел? Кто его щупал? Кто его на зуб пробовал?» А некто А.К.
Коль в статье, напечатанной в журнале «Природа», заявил: «Вавилов и его
сотрудники, посещая Абиссинию, Палестину, Северную Африку, Турцию, Китай,
Японию, Монголию и другие страны, интересовались не столько отбором наилучших
для Союза экотипов, как это делали американцы, сколько сбором морфологических
диковинок для заполнения пустых мест его гомологических таблиц».(4, стр. 363)
Вот начало статьи того же автора в газете «Экономическая жизнь» за 1931 год:
«Революционное задание В.И. Ленина обносить землю совземлю новыми растениями
оказалось сейчас подмененным реакционными работами по прикладной ботанике над
центрами происхождения растений. Под прикрытием имени Ленина окрепло и
завоевывает гегемонию в нашей сельскохозяйственной науке учреждение, насквозь
реакционное, не только не имеющее никакого отношения к намерениям Ленина, но
им классово чуждое и враждебное. Речь идет об Институте растениеводства
Сельскохозяйственной академии им. Ленина». (1, стр. 98)
Некто Г. Шлыков в журнале «Советские субтропики» писал: «Н.И. Вавилов
пытается спрятаться за одобрение его теории мировой, т.е. буржуазной,
литературой. Кому же неизвестно, что эта литература не признает научной
значимости марксизма-ленинизма, отрицает материалистическую диалектику?» И
дальше целая страница доказательств того, что вавиловский закон
гомологических рядов не только порождение буржуазной науки, но и научная база
фашистских расовых «драконовских законов». (14, стр. 135)
Вот цитата из статьи 1939 года: «Заморозив в своих 2-3 растительных кладовых
сотни тысяч подчас ценнейших для производства и селекционной работы растений,
работники ВИРа ревниво охраняют этот запас, как скупые рыцари, сидящие на
сундуках с золотом. Правда, иногда И.В. Мичурин получал от ВИРа несколько
штук семян или косточек кое-каких растений, но они, как правило, всегда были
невсхожи». (14, стр. 134)
В марте 1939 года во Всесоюзном институте растениеводства проходила выездная
сессия областного бюро секции научных работников, на которой состоялся
откровенный обмен мнениями, ярко выявивший противоречия, раздиравшие
сельскохозяйственную и биологическую науку.
Н.И. Вавилов спокойно и мужественно воспринимал критику. Осветив в своем
выступлении замечательные по своей значимости итоги работы института,
рассказов о внедрении в практику сельского хозяйства десятков новых сортов
различных растений (один только ячмень селекции ВИРа занимал в тот период
половину всех площадей под ячменем в СССР), Вавилов сжато, но очень ярко
охарактеризовал существо тех трудностей, перед которыми стояла наша наука:
«Крупным специфическим дефектом в нашей обстановке является разноголосица,
которая существует сейчас в науке, и это очень сложный вопрос. Мы большое
учреждение, охватываем громаду науки, вопрос о культурах, об их
распределении, об их введении в жизнь, о земледельческом освоении территории,
Вопрос сейчас идет не о всей громаде, вопрос идет о генетики, но участок стал
злободневным, ибо наши концепции очень расширились. Конечно, как всегда в
науке, вопрос решит прямой опыт, решат факты, однако это длительная операция,
особенно в нашем деле селекционном.
Надо сказать, что у нас здесь получается разноголосица очень серьезная.
Я не могу здесь на ней остановиться подробно, но скажу, что существует две
позиции: позиция Одесского института (последователи Лысенко) и позиция
ВИРа. Позиция ВИРа – это позиция современной мировой науки, в этом нет никакого
сомнения, науки, написанной не фашистами, а просто передовыми тружениками. И
если бы мы собрали здесь аудиторию, состоящую из самых крупных селекционеров,
практиков и теоретиков, то я уверен, что они голосовали бы с вашим покорным
слугой, а не с Одесским институтом. Это дело очень сложное. Приказом, хотя бы
Наркома, такое дело не решается. Пойдем на костер, будем гореть, но от своих
убеждений не откажемся. Говорю вам со всей откровенностью, что верил, верю и
настаиваю на том, что считаю правильным, и не только верю, потому что вера в
науке – это чепуха, но говорю о том, что я знаю на основании огромного опыта.
Это факт, и от этого отойти так просто, как хотелось бы и занимающим высокий
пост, нельзя. Положение таково, что какую бы вы ни взяли иностранную книгу,
все они идут поперек учению Одесского института. Значит, эти книжки сжигать
прикажете? Не пойдем на это. До последних сил будем следить за передовой
мировой наукой, считая себя настоящими дарвинистами, ибо задачи освоения всех
мировых ценностей, мировых растительных ресурсов, которые создало
человечество, могут быть выполнены только при таком подходе к делу, и те
клички, которые иногда тут даются, нужно сначала очень внимательно
продумывать. Генетика – это прежде всего физиологическая наука, и ее основная
задача состоит в том, чтобы переделывать организмы, для этого она и
существует. Но в ходе исследований она доказывает, что не так просто изменить
наследственную природу, пытались ее сломать и не сломали» (4, стр. 363-364).
Лысенко поддерживали сотни уверовавших в него агрономов – и в конфликт с
Вавиловым вошла лженаука.
Лысенко поддерживала партийная и государственная пресса – и в конфликт с
Вавиловым вошла мощная идеология.
Лысенко поддерживал нарком земледелия Яков Яковлев – и в конфликт с Вавиловым
вошли правительственные круги.
Лысенко поддерживал сам «вождь народов» - и в конфликт с Вавиловым вступила
самая безжалостная сила.
«С 1935 года Вавилова перестали избирать во ВЦИК. В том же году он,
основатель Сельскохозяйственной академии, вынужден покинуть пост президента
ВАСХНИЛ и остаться на должности лишь вице-президента. Чем выше поднимались
акции Лысенко, тем меньше ценили в Кремле Вавилова. На одном из совещаний,
где Сталин приветливо беседовал с Лысенко, он демонстративно вышел, когда
начал выступать Вавилов. Еще более откровенно продемонстрировал он свое
нерасположение к ученому Сталин в середине 30-х годов во время специальной
встречи. Генсек решительно заявил, что зарубежные поисковые экспедиции
ботаников никому не нужны, что многие ученые не думают об урожае, а
занимаются у себя в лабораториях и институтах ерундой. «Идите на выучку к
стахановцам полей!» - предложил Сталин Вавилову». (14, стр. 142-143)
Наконец, когда Вавилов 20 ноября 1939 года добился приема у Сталина, тот, не
предложив даже сесть великому ученому, саркастически заявил: «Ну что,
гражданин Вавилов, все тычинками и пестиками занимаетесь? А вот товарищ
Лысенко поднимает колхозные урожаи!». Тщетно Вавилов пытался втолковать
бывшему семинаристу мысль о необходимости развития фундаментальной науки, о
важности и перспективности работ ВИРа. Сталин резко оборвал наскучившую ему
лекцию: «Вы свободны, гражданин Вавилов». Они не поняли друг друга:
«Менделеев» биологии, умевший видеть за деревьями лес, и лучший друг
советских ученых, рубивший лес так, что щепки во все стороны света летели.
25 мая 1939 Президиум ВАСХНИЛ под председательством Т.Д. Лысенко рассматривал
отчет о работе Всесоюзного института растениеводства. Доклад о работах
института был сделан Н.И. Вавиловым. По предложению Т.Д. Лысенко этот отчет
не был принят, как наносящий вред сельскому хозяйству, хотя он ярко отражал
огромную работу, проделанную коллективом.
Заведомо клеветнические измышления высказывались сторонниками Т.Д. Лысенко и
на состоявшейся дискуссии по генетики, организованной журналом «Под знаменем
марксизма». Организатор дискуссии философ академик М. Митин подверг резкой,
малокомпетентной критики академика Н.И. Вавилова и его сторонников и провел
провокационную аналогию между дискуссией по генетике и дискуссиями против
«меньшевиствующего идеализма».
Вавилов Н. И. ответил ему глубокой и содержательной речью, проникнутой
заботой о судьбах советской науки и сельского хозяйства. Уже тогда Николай
Иванович предупреждал о многих серьезных трудностях, которые впоследствии
пережила наша наука. Н.И. Вавилов уже тогда предлагал ряд агроприемов,
которые были введены лишь спустя 15-20 лет, уже тогда говорил о необходимости
отрыва советской биологии от мировой науки.
Обладая огромной эрудицией опытом ученого, считая, что судьбы отечественной
биологии важнее его собственной судьбы, Н.И. Вавилов твердо отстаивал свои
позиции. Великий ученый определенно и четко вскрывал псевдоноваторский
характер «новой генетики». «Специфика наших расхождений, - говорил Н.И.
Вавилов, - заключается в том, что под названием передовой науки нам
предлагают вернуться, по существу к воззрениям, которые пережиты наукой,
изжиты, то есть к воззрениям первой половины или середины 19-го века». (15,
стр. 264)
Предложения о внедрении в СССР посевов гибридной кукурузы семенами,
получаемыми при скрещивании длительного самоопыляющихся линий, основывались
на успешном внедрении этого приема в США. Организационно внедрения этого
метода было подготовлено Н. И. Вавиловым и его сотрудниками. Однако внедрение
этого прогрессивного приема наталкивалось на резкое сопротивление Т.Д.
Лысенко, И.И. Презента и др.
Мужественная и принципиальная позиция академика Н.И. Вавилова, его стойкость
в защите своих научных убеждений стали основной помехой для полной победы
лысенкоизма. Против ученого было начато решительное наступление. В декабре
1939 года в центральной печати Вавилов был объявлен реакционером в науке.
«Вавилон должен быть разрушен» - эта фраза, приписываемая Презенту, кратко и
емко характеризовала действия Президиума ВАСХНИЛ.
На заседаниях Вавилов попросту третируется, на его голову сыплются мелкие
уколы, издевки, выговоры. Вот несколько типичных сцен.
«Вавилов докладывает о планах и достижениях своего института. С сожалением
признается в неудачах биохимической лаборатории.
Вавилов: Отличить чечевицу от гороха по белку мы до сих пор не умеем.
Лысенко (с места): Я думаю, что каждый, кто возьмет на язык, отличит чечевицу
от гороха.
Вавилов: Мы не умеем различать их химически.
Лысенко: А зачем уметь химически отличать, если можно языком попробовать?
....
Вавилов предъявляет заседанию пакет с семенами устойчивой к ржавчине
средиземноморской пшеницы. Надпись на пакете – по-латыни.
Вавилов (поясняя): Ботаническая наука международна, и поэтому наиболее
удобной терминологией является латынь.
Лысенко: Чтобы народ не понял.
Презент: Тогда и исследовать не надо». (14, стр.165-166)
К этому времени число доносов достигает неприличных размеров. Такие, как Е.
К. Эмме, писали доносы со страха или по принуждению, но другие, а их
большинство, писали по соображениям карьеры или просто из агрессивной
зависти. Один из наиболее гнусных доносов, датировался мартом 1939 года,
принадлежал старшему научному сотруднику ВИРа Г. Н. Шлыкову. "Просто трудно
представить, чтобы реставраторы капитализма пошли мимо такой фигуры, как
Вавилов, авторитетный в широких кругах агрономии, особенной старой", - пишет
он. Но самой страшной и, вероятно, решающей судьбе Вавилова была жалоба
Лысенко на него во время одного из приемов в Кремле. По некоторым данным, это
было в марте 1939 года. На этом приеме Лысенко дал ясно понять, что Вавилов
является помехой в его деятельности на пользу социалистическому хозяйству.
Ему удалось вызвать недовольство Сталина, а присутствовавший при этом Берия
сделал соответствующие "оргвыводы". Судьба Вавилова была решена. Почему же
его не арестовали тогда же? Есть все основания полагать, что арест затянулся
из-за предстоящего Международного генетического конгресса.
Летом 1939 года в Москве должен был состояться VII Международный генетический
конгресс, президентом которого еще в 1938 году был избран Вавилов. Тем не
менее новоявленный наркоминдел В.М. Молотов выносит официальный запрет на
проведение конгресса на территории СССР. Тогда конгресс решают перенести в
Эдинбург (Шотландия). Но Вавилову, несмотря на его обращение в Академию наук
и в правительство, было отказано в поездке. Президентом конгресса пришлось
избрать другого ученого - английского генетика, профессора Ф. Крю. На
открытие конгресса, обращаясь к его участникам, он сказал: "Вы пригласили
меня играть роль, которую так украсил бы Вавилов. Вы надеваете его мантию на
мои, не желающие этого плечи. И если я буду выглядеть неуклюже, то вы не
должны забывать: эта мантия сшита для более крупного человека". Что могло
быть большим свидетельством международного авторитета Вавилова, чем эти
слова? Неудивительно, что даже такой человек, как Берия, не решился
арестовать его в год проведения конгресса.
А руководимый Н.И. Вавиловым институт растениеводства стал объектом
грубейшего административного вмешательства со стороны Президента ВАСХНИЛ –
Т.Д. Лысенко.
Часть 4
Костер
(Последние годы жизни)
Завидуем внукам и правнукам нашим, которым суждено видеть Россию в 1940 году, стоящую во главе образованного мира, дающую законы в науке и искусстве и принимающую благоговейную дань уважения от просвещенного человечества. В.Г. Белинский, 1840 год Следствие по делу Вавилова Н.И. я вел исключительно объективно. Дело было трудоемкое.. Никаких претензий ко мне как к следователю Н.И. Вавилов не предъявлял ни во время следствия, ни при окончании его. А.Г. Хват, полковник, бывший следователь НКГБ. 1954 год (14, стр.175) В июле 1940 года, перед самым отъездом Н. И. Вавилова в экспедицию по Белоруссии и Украине, у него состоялось последнее решительное объяснение с Лысенко. Друзьям он сказал потом: «Я все сказал ему .». «27 июля экспедиция Вавилова выехала из Киева во Львов, а оттуда – в Черновцы (Западная Украина). Прибыв туда 6 августа, Вавилов отправился в предгорный район для сбора растений. Как потом шептались противники Вавилова: шёл к границе. Там его и задержали. В вещевом мешке учёного сотрудники НКВД обнаружили сноп полбы – полудикой местной пшеницы. Видимо, это было последним научным открытием Вавилова» (4, стр. 360). Учёного отправили самолетом в Москву «для переговоров». Постановление о его аресте подписал начальник ГЭУ НКВД Кобулов и утвердил Берия. 7 августа санкцию на арест дал заместитель генпрокуратуры СССР Сафонов. Вот что вспоминает сын Николая Ивановича – Юрий Николаевич:«Когда отца арестовали, мы с мамой были на даче. Производились обыски во всех мессах проживания отца. Я вышел во двор, увидел, что люди в штатском посадили мать в машину. Она вернулась на следующий день. Я все понял сам». (10) Допрос Вавилова начался утром 12 августа 1940 года в Москве во внутренней тюрьме НКВД. Руководил следственным делом старший лейтенант государственной безопасности Алексей Григорьевич Хват. «В 1940 году А.Г. Хвату исполнилось 33 года. В 33 года. В этом возрасте Толстой написал «Казаков», Дарвин опубликовал «Происхождение видов», Эдисон изобрел лампу накаливания, а Менделеев принялся тасовать каточки с изображениями атомных весов элементов. В 33 года Вавилов объявил об открытии им закона гомологических рядов. 33-летний Алексей Хват тоже стоял на пороге своей главной жизненной удачи, ему поручено было любыми средствами доказать, что Н.И. Вавилов не выдающийся ученый, а заклятый враг Советской власти. Доверие Хват, как и свою фамилию, полностью оправдал. Вавилова он «оформил» чисто, без сучка и задоринки. Впоследствии он дослужился до полковника и на 48-ом году жизни вышел в запас с полной пенсией.. покой его был нарушен один только раз, когда в сентябре 1954 года его вызвали в Главную военную прокуратуру и предложили дать объяснение о том, как он вел дело №1500. Хват порядком струхнул. Незадолго перед тем были расстреляны Берия и Абакумов, в «органах шла чистка, многих бывших следователей за прежние грехи лишали пенсии, выгоняли из партии. Но полковник выкрутился, предоставив справку о том, что показания осужденного подтвердили высшие инстанции». (14, стр.176) Алексей Григорьевич успокоился, написал в объяснительной слова, стоящие в эпиграфе к этой части и был отпущен с миром. Жил он еще лет 20 (нет точных сведений) В первые дни допроса Вавилов держался очень твердо и решительно отрицал, выдвинутые против него абсурдные обвинения. Но следователь - инквизитор бериевской выучки - умел "раскалывать" и таких мужественных, твердых и волевых людей как Вавилов, и 24-го августа добивается "признания". Более того, старшему лейтенанту А. Г. Хвату удается заставить Вавилова написать на двенадцати страницах совершенно фантастическое заявление, озаглавленное "вредительство в системе растениеводства, мною руководимого с 1920 года до ареста (6.VIII. 1940 года)" (10). Написать такое Вавилова заставили, конечно же, пытки, унижения и бессонные ночи. Поднятые в последнее десятилетие материалы, свидетельствуют, что для получения признания применялись пытки, когда заключённый стоял 10-12 часов без перерыва и без возможности сесть или лечь (в т.ч. ночью). Помимо этого применялись меры воздействия чисто физического характера. Сохранились многочисленные свидетельства о том, что на протоколах допросов Вавилова и на материалах следствия были отчетливо видны красные пятна. У Николая Ивановича не осталось выбора. Было ясно, что упорствовать и опровергать клевету совершенно бесполезно, сопротивляться бессмысленно. Полностью опровергал Вавилов только обвинение в шпионаже. В сообщники Вавилов взял всех расстрелянных к этому времени наркомов и заместителей наркомов земледелия – Яковлева, Чернова, Эйхе, Муралова, Гайстера, вице-президентов ВАСХНИЛ Горбунова, Вольфа, Черных, Тулайкова, Мейстера. «Что же сломило Николая Ивановича, заставило клеветать на себя и на тех погибших, среди которых были дорогие, близкие ему люди? Можно многое объяснить жестокостью тюремного режима, неприемлемого для 53-летнего ученого. И все таки под следствием находился Николай Вавилов, бесстрашный путешественник, человек, мужество которого было известно всему миру. Поход без карт и проводников через Кафиристан, ночевка в Сахаре рядом с львом, встреча с разбойниками в Абиссинии, обвал на Кавказе... Спутники Вавилова могли убедиться: в трагических ситуациях ученый находчив, отважен, обладает железной выдержкой, никогда не бросает товарища. И такой человек сдался, пробыв на Лубянке всего лишь 12 ночей? Мне кажется, произошло иное. Своим глубоким аналитическим умом Николай Иванович очень скоро понял, что его арест не случайность, а продуманная, согласованная во всех инстанциях акция. В этом прежде всего убеждали многочисленные показания против него, которые следователь Хват то и дело выбрасывал перед осужденным. Тут были и наговоры давно расстрелянного наркома Яковлева, и «признания» убитого в тюрьме управделами СНК Горбунова, и письменные показания умершего после трех арестов селекционера Таланова. 38 таких выписок из «дел» тех, кто уж давно был осужден и расстрелян, предъявил Хват Вавилову. Николай Иванович понял: надо играть в ту игру, которую навязывает Хват, играть с наименьшим по возможности убытком. Так возник план: признать себя виновным во вредительстве и взять в сообщники тех, кого уже нет в живых, кто не может пострадать от его показаний». (14, стр. 180-181) После того как Вавилов "признал" себя "вредителем и врагом народа", до марта 1941 года его больше не вызывают на допросы, и, сидя в одиночной камере он мог отдаться своим мыслям. Но Вавилов все еще оставался Вавиловым. Он не мог бездействовать: между допросами пишет давно задуманную книгу «История развития земледелия (Мировые ресурсы земледелия и их использование)». Под рукой он не имел ничего, кроме карандаша и бумаги, но зато обладал поистине безграничными знаниями. Это был последний подвиг великого ученого (сентябрь 1940 – март 1941 года). Ища справедливости, Н.И. Вавилов пишет письмо в Президиум ВС СССР. Далее приводится его оригинальный текст (подчеркивания принадлежат Н.И. Вавилову) «В Президиум Верховного Совета СССР от осужденного к высшей мере наказания – расстрелу бывшего члена АН СССР, вице-президента Академии сельскохозяйственных наук им. Ленина и директора Всесоюзного института растениеводства Вавилова Николая Ивановича Обращаюсь с мольбой в Президиум Верховного Совета о помиловании и предоставлении возможности работой искупить мою вину перед Советской властью и Советским народом. Посвятив 30 лет исследовательской работе в области растениеводства (отмеченной Ленинской премией и др.), я молю о предоставлении мне самой минимальной возможности завершить труд на пользу социалистического земледелия моей Родины. Как опытный педагог, клянусь отдать себя всего делу подготовки советских кадров. Мне 53 года Осуждённый Н. Вавилов Март 1941 бывший академик, доктор биологических наук» (10) В марте 1941 года снова начинаются допросы. К этому времени Вавилов был переведен в 27-ю камеру Бутырской тюрьмы, в которой уже сидели около 200 человек. Каждую ночь Вавилова уводили на допрос, а на рассвете, обессиленного, волокли назад и бросали прямо у порога камеры. Надо было показать, что академик Вавилов – страшный, очень страшный преступник, чье неприятие Советской власти восходит чуть ли не к 1917 году. И следователь напрягал свою небогатую фантазию, чтобы придумать, как выглядели эти «преступления». Он грузил корабль, чтобы утопить его, сочинял небылицы, чтобы придать видимость законности предстоящему убийству. «В один прекрасный день он предъявляет подследственному обвинение в том, что директор ВИРа «портил посадочные площадки Ленинградского военного округа, производя засев аэродромов семенами, зараженными карантинным сорняком» (?!). Николай Иванович не мог не посмеяться над этой абракадаброй. Но Хвату было не до смеха. В связи с началом войны, следователь получил распоряжение быстрее передавать дело в суд. Возникла реальная опасность: за плохую работу начальство может отправить провинившегося на фронт. 29 июня Хват приобщает к следственному делу якобы обнаруженный при обыске манифест контрреволюционного «Великорусского союза» и фотографию Керенского А.Ф. Новые документы позволяют изобличить троцкиста Вавилова в связи с черносотенными монархистами и одновременно в том, что он является сторонником Временного правительства, низложившего монархию. Познания старшего лейтенанта Хвата в области истории не уступали его познаниям в ботанике. Но военная коллегия Верховного суда не нашла в этих обвинительных заключениях никаких недостатков. Каждый раз, когда ученого вводили, Хват задавал ему один и тот же вопрос: − Ты кто? − Я академик Вавилов. − Мешок г.на ты, а не академик, - заявлял доблестный старший лейтенант и, победоносно взглянув на униженного «врага», приступал к допросу. Всегда общительный, жизнерадостный Николай Иванович сильно изменился, почти не разговаривал, замкнулся в себе». (14, стр. 194-195) Вскоре Вавилова перевели во внутреннюю тюрьму НКВД, а 9-го июля 1941 года состоялась комедия суда над "троцкистом и монархистом". Перед судом следователь организовал экспертизу научной деятельности Вавилова. Организованная Хватом "экспертная комиссия" состояла из явных противников и личных врагов Вавилова. Хват умело подобрал экспертов, и когда он послал список президенту ВАСХНИЛ, чтобы тот мог "познакомиться со списком комиссии и высказаться по его составу", то президент написал на полях: "Согласен, Лысенко". Состав экспертной комиссии его вполне устраивал. Закрытое заседание военной коллегии Верховного суда СССР происходило 9-го июля 1941 года и продолжалось лишь несколько минут. «Судил Вавилова сам В.В. Ульрих, председатель военной коллегии. В протоколе время начала и конца заседания не отмечено, текста – 2 страницы. Николай Иванович не признал себя виновным. В постановлении на арест утверждалось, что он был одним из руководителей антисоветской, шпионской, контрреволюционной организации «Трудовая крестьянская партия» и по его заданию в ВИРе проводили специальные исследования, опровергавшие новые теории Мичурина и Лысенко. Свидетели по делу не допрашивались» (2, стр. 7). Вавилову выносят приговор – высшая мера наказания, расстрел. В помиловании Вавилову было отказано, и он был переведен в Бутырскую тюрьму для приведения приговора в исполнение. Но Вавилова не расстреляли в Бутырской тюрьме. Расстрел был отсрочен на полтора года. Фактически мгновенная смерть была заменена медленной мучительной смертью. 2-го октября 1941 года Вавилов был переведен из Бутырской тюрьмы во внутреннюю тюрьму НКВД, а 15-го октября ему было заявлено, что он получит полную возможность научной работы как академик и что это будет выяснено окончательно в течение двух-трех дней. Очевидно, речь шла о его работе в одном из тюремных институтов. 8-го августа 1941 года Вавилов обращается к Берии с просьбой дать ему возможность закончить в течение полугода составление "Практического руководства для выведения сортов культурных растений, устойчивых к главнейшим заболеваниям", а в течение 6 - 8 месяцев закончить при напряженной работе составление "Практического руководства по селекции хлебных злаков" применительно к различным условиям СССР. Но он так и не получает ответа из НКВД. С началом войны жена (доктор биологических наук Е. И. Барулина) и сын Вавилова были эвакуированы из Подмосковья в Саратов. Там жила сестра жены Николая Ивановича. В середине октября немецкие войска подходят вплотную к Москве, и многих важных заключенных этапируют из столицы на восток. Николая Ивановича решено было этапировать в Свердловск. Но это оказалось невозможным, поскольку пути были разбомблены вражеской авиацией. Тогда стрелки перевели на саратовское направление. 29-го октября 1941 года Вавилова на поезде привозят в Саратов. Вавилов попадает в корпус, где содержали наиболее крупных общественных и политических деятелей. Здесь с ним вместе оказались редактор "Известий" Ю. М. Стеклов, философ, историк и литературовед, директор Института мировой литературы Академии наук СССР академик И. К. Луппол и другие крупные деятели. Сначала Вавилов сидел в одиночке, а затем он попал в камеру, где его соседями оказались И. К. Луппол и инженер И. Ф. Филатов. Несмотря на ухудшающееся здоровье, Вавилов не падает духом и ободряет товарищей. Вавилов держался очень стойко, был бодр и прочитал в камере 101 час лекций по биологии, генетике, растениеводству. Он был настроен оптимистически, много рассказывал о путешествиях. Виновником своего ареста он называл Лысенко. В камере смертников Вавилов пробыл в общей сложности около года. За это время арестантов ни разу не вывели на прогулку. Им было запрещено переписываться с родными, получать передачи. Их не выпускали в баню и даже не давали мыло для умывания в камере. К весне 1942 года состояние Вавилова ухудшилось, и он тяжело заболел цингой. 25-го апреля 1942 года Вавилов пишет душераздирающее письмо председателю СНК СССР Л.П. Берии: «Глубокоуважаемый Лаврентий Павлович! Меня обвиняют в измене Родине и шпионаже. На суде, продолжавшемся несколько минут, мною было заявлено категорически, что это обвинение построено на небылицах, лживых фактах и клевете. Перед лицом смерти, как гражданин СССТ, считаю своим долгом заявить, что я никогда не изменял своей Родине. Все мои помыслы – продолжить и завершить неоконченные научные работы на пользу Советскому народу. Мне 54 года. Я был бы счастлив умереть за полезной работой для моей страны. Прошу и умоляю Вас о смягчении моей дальнейшей судьбы, о предоставлении работы по моей специальности хотя бы в скромнейшем виде (как научного работника – растениевода и педагога), о разрешении общения с моими родными, о которых я не имею сведения более 1,5 лет» (10) Но весной 1942 года в тюрьме разыгралась эпидемия дизентерии. Заболел и Вавилов. Но и это испытание не было для него последним. К двум академикам Вавилову и Лупполу, посадили какого-то умалишенного, который, пуская в ход кулаки и зубы, отнимал у них утреннюю пайку хлеба. Все это время в Саратове жила, поселившаяся у своей сестры - учительницы, жена Вавилова. Но о том, что муж ее в Саратове, она не знала и посылала посылки по старому адресу в Бутырскую тюрьму в Москву. Вавилов тоже ничего не знал о жене. Сергей Иванович Вавилов не мог бездействовать, видя трагическое положение брата. Узнав об отказе замены наказания, он идёт к Президенту АН СССР, ботанику Комарову, убеждает его в несправедливости приговора, и они вместе пишут письмо генсеку Сталину с просьбой о помиловании. К сожалению, об отправке этого письма Комаровым сведений нет. Сергей Иванович оказывал материальную поддержку семье брата, о чем с благодарностью вспоминает его племянник Юрий Николаевич Вавилов, здравствующий и поныне. Самой значительной фигурой из тех, кто пытался открыто выступать за академика Н.И. Вавилова, был его 77-летний учитель Д.Н. Прянишников. Он был удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден Сталинской премией. Весной 1941 года он написал Берии письмо, где разоблачил Лысенко как ученого и руководителя ВАСХНИЛ. Оно осталось без ответа. Тогда в начале 1942 года Прянишников отправляет в Москву телеграмму, в которой представляет работы Н.И. Вавилова на соискание Сталинской премии. Такая дерзость могла стоить ему жизни, но и это сошло ему с рук. Осенью 1942 года Прянишников в частном разговоре с президентом АН Комаровым открыто заявляет, что Лысенко убил Вавилова, чтобы захватить все его должности. Ходатайство доходит до Генпрокурора Вышинского, но успеха не имеет. То же самое с Молотовым. Прянишников, Комаров и С.И. Вавилов даже писали письмо в Кремль зимой 1943, но, попав в руки Берии, письмо легло на дно. Круг замкнулся. И тем не менее, в конце 1943 года 80-летний Прянишников попадает на прием к наркому внутренних дел. «На столе были разложены тома дела №1500, академику предоставили возможность беспрепятственно читать показания подследственного и свидетелей. «Вот видите, - сказал Берия, раскрывая очередной том дела, - Вот он сам своей рукой пишет, что продался английской разведке». Прянишников заявил, что бумагам не верит. Он знает ученика 40 лет и убежден, что Вавилов не был ни шпионом, ни вредителем. «Поверю, если только он мне все это скажет», - заключил старик и , не прощаясь, пошел к двери». (14, стр. 219) 13-го июня 1942 года заместитель народного комиссара внутренних дел В.Н. Меркулов пишет председателю военной коллегии Верховного суда СССР Ульриху о Вавилове и Лупполе: "Ввиду того, что указанные осужденные могут быть использованы на работах, имеющих оборонное значение, НКВД СССР ходатайствует о замене им высшей меры наказания заключением в исправительно-трудовом лагере НКВД сроком на 20 лет каждому". Президиум Верховного Совета СССР быстро принял постановление. Легко себе представить, с какой радостью Вавилов писал: "Настоящее постановление мне объявлено 4-го июля 1942 года". Казалось, все будет хорошо. Вавилова и Луппола из подвала перевели в общую камеру на 1-ом этаже. Вскоре отправили в лагерь Луппола. Но Вавилов так и не дождался этого желанного для него теперь лагеря. Он заболел дизентерией и 24-го января 1943 года попадает в тюремную больницу в тяжелой стадии дистрофии. 26 января 1943 года Николай Иванович Вавилов скончался в 7 утра при явлениях упадка сердечной деятельности.Часть 5
Постскриптум
То, что случилось уже, нельзя неслучившимся сделать. Феогнид, философ, 6 век до н. э. (14, стр. 248) Глубокой осенью 1942 года в Алма-Ату, где находился академик В.Л. Комаров, президент академии наук СССР, приехал пресс-атташе американского посольства в Москве. Миссия его состояла в том, чтобы вручить президенту дипломы двух новых членов The Royal Society of London, Королевского общества английской академии наук. Им были математик И.М. Виноградов и биолог Н.И. Вавилов. Комаров по-английски почти не говорил, поэтому встреча с дипломатом была поручена академику-лингвисту Мещанинову и помощнику президента Чернову. Пресс-атташе вручил представителям Президиума АН СССР два красиво оформленных диплома в виде свитков и бланки, в которых вновь избранные члены должны были расписаться в получении дипломов. Подписанные бланки надлежало через МИД СССР вернуть в посольство Великобритании. «После приема, когда англичанин уехал, - вспоминает Чернов, - мы отправились к Комарову, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Что делать с дипломом Вавилова, а главное – с бланком, который он должен подписать? Мы не имели не малейшего представления о том, где находился Николай Иванович, не знали даже, жив ли он. Но сообщить англичанам правду было также невозможно. В конце концов, мы приняли прямо-таки соломоново решение: отправить диплом вместе со злополучным бланком в город Йошкар-Олу, где в военные годы со своим Оптическим институтом находился в эвакуации Сергей Вавилов. В сопроводительном письме Комаров просит Сергея Ивановича заполнить форму расписки без инициалов, что тот и сделал». Чем закончилась эта афера Чернов за давностью времени вспомнить не мог, но он хорошо запомнил другое: вскоре после отправки в Москву бланка с фиктивной подписью из посольства Великобритании последовало весма ядовитое письмецо, где президенту Академии Наук разъяснили – «мы ожидали подпись не Сергея Вавилова, а Николая.» (14, стр.251) Официальный взгляд на академика Вавилова в первые послевоенные годы состоял в том, что этот шпион и вредитель изобличен, обезврежен, понес наказание и вспоминать о нем, следовательно, незачем. Труды его не только не издавались, но на них запрещено было даже ссылаться. Из учебников изъяли всякое упоминание о законе гомологических рядов и теории центров. Всякая попытка реабилитировать имя ученого, признать за ним какие-либо заслуги встречала резкий отпор властей. Не нашлось для Н.И. Вавилова места в книге, посвященной столетию Географического общества СССР, в Словаре русских ботаников, Большой Советской Энциклопедии. Статья о нем появилась лишь в 1958 году в дополнительном томе. В предисловии к книге Марка Поповского «Дело академика Вавилова» мы узнаем о том, как у него родилась идея, написать эту монографию. В середине 50-х годов, вскоре после смерти Сталина, автор зашел в гости к старому ученому- генетику на чашку чая. В самый разгар беседы Поповский обращает внимание на портрет, который висит на стене в столовой. Хозяин объяснил ему, что это его учитель, великий биолог и путешественник академик Николай Вавилов. Гость был очень удивлен, поскольку к тому времени у него накопился солидный опыт написания очерков и статей о людях советской биологической науки, но о Николае Вавилове он слышал в первый раз. Ученый же с грустью объясняет, что на имя Вавилова долгие годы было наложено табу. Сам же хозяин непрестанно спорит со своей супругой, которая убеждает его снять со стены портрет, приносящий неприятности. Директором ИГЕНа после ареста Вавилова стал Лысенко. Его способность занимать место убиенных и репрессированных была в ученом мире известна издавна, зато «избрание» Сергея Вавилова в президенты АН всех очень озадачило. Вот как было дело. Узнав об отказе помилования брата, в 1945 году С.И. Вавилов пишет в ЦК довольно экспрессивное письмо. Не смотря на протесты коллег, Вавилов отправляет письмо Сталину. «Через несколько месяцев С. Вавилова вызывают в Кремль. Вождь, как ни странно, был настроен благостно, всячески обласкал ученого, сказал, что знает и ценит его труды, рад знакомству. После этой «художественной части» последовала часть деловая: Сергея Ивановича попросили возглавить АН СССР. Не подготовленный к такому предложению Вавилов-младший растерялся, стал мяться, отнекиваться, вспомнил о репрессированном брате, однако Сталин настойчиво повторил, что объективные обстоятельства в данном случае не играют ни какой роли. Сергей Иванович должен стать президентом по соображениям политическим. Такое «объяснение» оказалось решающим. Гость через силу выдавил – «да», и хозяин снова вернулся к дружелюбной, даже сердечной манере разговора. Между прочим он поинтересовался, нет ли у Сергея Ивановича каких-либо личных просьб к правительству, не нужна ли квартира или еще что- нибудь в этом роде. И тут, набравшись смелости, Вавилов-младший решился, наконец, замолвить слово о брате. Вождь позвонил куда-то по телефону, ему ответили, что наведут справки. Через несколько минут телефон зазвонил снова. Сталин выслушал короткое донесение, шмякнул трубку на рычаг и голосом, имитирующим негодование, произнес: «А, черт побери, погубили такого ученого!..» Этой театральной сценой аудиенция завершилась. Зачем понадобился Сталину весь этот фарс? Почему выбор пал именно на Сергея Вавилова? Единственное объяснение, которое приходит на ум, состоит в том, что обычно равнодушный к откликам Запада, Сталин в 1945 году, для каких-то ему одному ведомых целей, решил дезинформировать западное общественное мнение. Назначив Сергея Ивановича президентом АН СССР, он надеялся обмануть тех ученых и общественных деятелей, который подняли шум по поводу исчезновения Николая Ивановича. Кое-кто в Европе и Америке действительно поверили этой фальшивке. Но не многие. Понравилась, вероятно, Сталину и созданная им «шекспировская» ситуация: убив одного брата, он ставит другого во главе Академии. Это было в традициях «корифея науки». Брат Кагановича застрелился, когда его должны были арестовать, по Сталинскому приказу в тюрьме находились жены Молотова, Калинина. Но не мог же Сергей Вавилов не понимать, что, соглашаясь на президентство, тем самым помогает замести следы преступления. В политической игре Сталин использовал даже не столько его самого, сколько его фамилию». (14, стр. 253-254) В других материалах я нашел иное толкование назначения Вавилова-младшего на пост президента АН СССР. Имеются свидетельства, что он в то время работал над сверхсекретным проектом приборов ночного видения, стратегически чрезвычайно важных для Союза. В свете таких обстоятельств, эта «почесть» выглядит вполне оправданной. Облик академика С.И. Вавилова в конце 40-х – начале 50-х годов предстает перед нами весьма двойственным, если не сказать больше. Президент академии благословляет так называемую Павловскую сессию АН СССР (лето 1950 года), которая далеко назад отбросила отечественную физиологию и медицину. 26 августа 1948 года президиум Академии подтвердил свою верность «мичуринской биологии» и осудил работающих в академических институтах «морганистов- менделистов». Этот документ на несколько лет парализовал все серьезные исследования в области генетики, цитологии, физиологии растений. Президент невозмутимо взирает на то, как в научной и массовой прессе СССР освистывают «буржуазную науку кибернетику», как с университетских кафедр читают «материалистический, прогрессивный» курс «мичуринской биологии». И тот же самый Сергей Вавилов в частном разговоре с академиком Леоном Орбели спрашивает: «Неужели мы не дождемся дня, когда судом чести будут судить Лысенко?» «Мы не знаем и никогда не узнаем, во что обходились президенту АН СССР его подписи под официальными бумагами, сколько душевных мук испытал он, председательствуя на вечере, посвященном 50-летию Т.Д. Лысенко, на вечере, где докладчики обливали грязью его брата Николая; как страдал во время «космополитских» и иных столь же отвратительных кампаний своего времени. Этот обласканный высочайшим вниманием государственный чиновник был, возможно, не меньшей жертвой произвола, чем его старший, замученный в тюрьме брат». (14, стр. 255) Оставим этот вопрос открытым.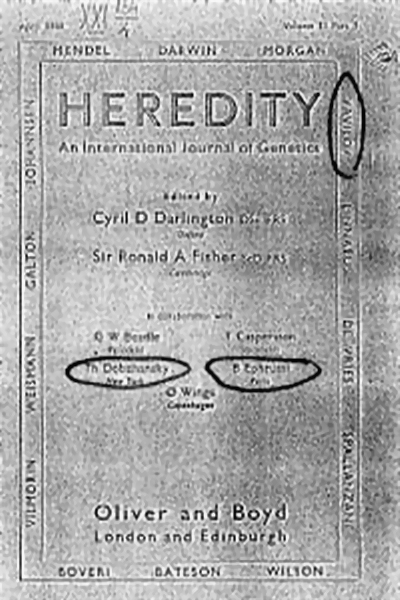 Сколько-нибудь ясное представление о судьбе русского биолога Запад получил
только летом 1945 года. Руководители академий наук разных стран получили
приглашение на празднование 220-й годовщины АН СССР. К рассылаемым проспектам
прилагались списки здравствующих и недавно почивших советских академиков.
Имени Николая Вавилова не оказалось ни в том, ни в другом списке. Запад
шокирован. Королевское общество и Национальная академия наук США обратились с
официальным запросом в Москву, но ответа не получили. Тогда в дело вмешался
«биологический интернационал» - ученые разных стран стали писать в президиум
АН, в ИГЕН, в ВИР и просто знакомым русским генетикам. Большинства адресатов
к этому времени не было в живых, другие потеряли работу, но и те, до кого
письма дошли, ответить на них не решились: «общение с заграницей» влекло в
сталинские времена самые тяжелые последствия.
Сколько-нибудь ясное представление о судьбе русского биолога Запад получил
только летом 1945 года. Руководители академий наук разных стран получили
приглашение на празднование 220-й годовщины АН СССР. К рассылаемым проспектам
прилагались списки здравствующих и недавно почивших советских академиков.
Имени Николая Вавилова не оказалось ни в том, ни в другом списке. Запад
шокирован. Королевское общество и Национальная академия наук США обратились с
официальным запросом в Москву, но ответа не получили. Тогда в дело вмешался
«биологический интернационал» - ученые разных стран стали писать в президиум
АН, в ИГЕН, в ВИР и просто знакомым русским генетикам. Большинства адресатов
к этому времени не было в живых, другие потеряли работу, но и те, до кого
письма дошли, ответить на них не решились: «общение с заграницей» влекло в
сталинские времена самые тяжелые последствия.
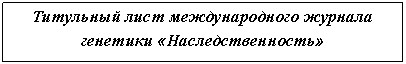 Упорное молчание русских еще больше взволновало мировую научную
общественность. В декабре 1945 известный американский генетик Карл Сакс
обратился в научный журнал “Science”: «Мы имеем сообщение нашей Национальной
Академии Наук о том, что Николай Вавилов умер. Но как он умер и почему?».
Профессор Сакс призывал ученых мира не прекращать протестов до тех пор, пока
русские не дадут вразумительного объяснения случившемуся. Это сообщение
вызвало целый поток некрологов, статей, писем с самого различного характера
предположениями об аресте и гибели ученого. Но в одном научный мир был
единодушен: виновником гибели Вавилова все в один голос называли Лысенко, без
упоминания этого «злого гения русской биологии» не обходился ни один
некролог, ни одна статья.
В 1946 году всеобщее изумление за рубежом вызвала книга Т.Д. Лысенко
«Наследственность и изменчивость». Вот что писал о ней Д.Н. Прянишников: «Так
как публикация такой книги, как «Наследственность и изменчивость»,
подорвала бы репутацию советской науки, то следует принять меры, чтобы она
за границу не попала. Книга эта полна погрешностей против элементарных понятий
естествознания, так, в ней высказывается убеждение, что не только каждая
капелька плазмы (без ядра), но и каждый атом и молекула себя производят
. Видно, что автору неизвестны различия между атомом, молекулой и капелькой
плазмы!» (14, стр. 259)
Прянишников оказался прав. Западные биологи встретили безграмотные писания
Лысенко презрительным хохотом. Президент АН ГДР генетик Штуббе тщательно
повторил эксперименты «первого мичуринца» и без труда показал, что
теоретически, а равно и практически все эти «великие открытия» – чепуха.
Директор Шведского государственного института генетик Густафссон
высказывался еще более решительно. «Некоторые ученые считают Лысенко
обманщиком. Постороннему человеку трудно решить, является ли он только
невежественным человеком, упрямцем, не признающимся в ошибке, или прямо
преступным обманщиком. Первое мы знаем, второе можем догадываться, третье
думают многие, в том числе в Советском Союзе». (14, стр. 259)
В 1948 году несколько иностранных членов академии наук СССР демонстративно
покинули нашу академию. В письме на имя С.И. Вавилова бывший президент
Лондонского Королевского общества, Нобелевский лауреат биолог сэр Генри
Г.Дейл объяснял свой поступок, открыто сказав о несостоятельности Лысенко,
его теории, насильственном способе который ЦК КПСС использовал для
установления его догматов. Н. Вавилова сэр Генри сравнивал с Галилео
Галилеем, а его брата с Гитлером, имея в виду постановление АН от 27 августа.
В пору, когда писались эти строки, казалось: мрак, объявший биологию, никогда
не рассеется, имена жертв Лысенко никогда не выйдут из забвения.
Заключительная речь президента ВАСХНИЛ 7 августа 1948 года звучала как речь
триумфатора: «Эта сессия – яркое свидетельство силы и мощи мичуринского
движения. Настоящая сессия показала полное торжество мичуринского направления
над менделизмом-морганизмом. Данная сессия поистине является исторической
вехой развития биологической науки». И под занавес, чтобы окончательно
запугать тех, кто еще пытался сохранить верность научной и человеческой
правде: «ЦК партии рассмотрел мой доклад и одобрил его (бурные аплодисменты,
переходящие в овации, все встают)» (14, стр. 263)
Но прошло всего лишь пять лет, и «тысячелетний рейх» академика Лысенко осел,
начал крениться и распадаться. «Умер Сталин, расстреляли Берию, и этого было
достаточно, чтобы все увидели: некоронованный король российской биологии –
гол. Было и после того немало «крестный ходов» и ходиков. Всякий раз, как
сельскохозяйственный кризис приводил страну на край голода, новые власти
кидались вздымать чудотворного Лысенко. Окончательно эта икона пала лишь в
октябре 1964 года с Хрущевым. Конец карьеры Лысенко подтвердил ту же истину,
что и ее начало: Лысенковщина – явление не научное, а чисто политическое».
(14, стр. 264)
Весной 1955 года сотрудник главной военной прокуратуры майор юстиции
Колесников извлек из архива КГБ все десять томов следственного дела № 1500.
Были вызваны все оставшиеся в живых участники трагедии и выслушаны их
показания. Прокурор, правда не осмелился вызвать к себе в кабинет Лысенко, но
Трофиму Денисовичу все же пришлось письменно объяснить, как он оценивает
труды и личность академика Вавилова, что думает об аресте своего бывшего
вице-президента. Нимало не смутясь, Лысенко написал, что «всегда считал
академика Вавилова академиком мирового значения», споры же его с Вавиловым
носили сугубо специальный характер «имели целью выяснение научных истин в
области биологии».
Итак, дело было закрыто, признано необъективным, организаторы и исполнители
расправы над ученым – разоблачены. В любой другой стране этих выводов было бы
достаточно, чтобы привести к судебной ответственности провокаторов и палачей.
Но никто из организаторов дела не понес наказание. «Торжество справедливости»
выразилось лишь в том, что жена замученного в тюрьме ученого Елена Ивановна
Барулина получила по почте типографски отпечатанную бумажку, в которой ее
извещали, что приговор по делу ее мужа академика Н.И. Вавилова отменен «за
отсутствием в его действиях состава преступления». Бумажка не содержала ни
соболезнования, ни указания, при каких обстоятельствах и когда ученый погиб и
где родные могут найти его могилу.
Упорное молчание русских еще больше взволновало мировую научную
общественность. В декабре 1945 известный американский генетик Карл Сакс
обратился в научный журнал “Science”: «Мы имеем сообщение нашей Национальной
Академии Наук о том, что Николай Вавилов умер. Но как он умер и почему?».
Профессор Сакс призывал ученых мира не прекращать протестов до тех пор, пока
русские не дадут вразумительного объяснения случившемуся. Это сообщение
вызвало целый поток некрологов, статей, писем с самого различного характера
предположениями об аресте и гибели ученого. Но в одном научный мир был
единодушен: виновником гибели Вавилова все в один голос называли Лысенко, без
упоминания этого «злого гения русской биологии» не обходился ни один
некролог, ни одна статья.
В 1946 году всеобщее изумление за рубежом вызвала книга Т.Д. Лысенко
«Наследственность и изменчивость». Вот что писал о ней Д.Н. Прянишников: «Так
как публикация такой книги, как «Наследственность и изменчивость»,
подорвала бы репутацию советской науки, то следует принять меры, чтобы она
за границу не попала. Книга эта полна погрешностей против элементарных понятий
естествознания, так, в ней высказывается убеждение, что не только каждая
капелька плазмы (без ядра), но и каждый атом и молекула себя производят
. Видно, что автору неизвестны различия между атомом, молекулой и капелькой
плазмы!» (14, стр. 259)
Прянишников оказался прав. Западные биологи встретили безграмотные писания
Лысенко презрительным хохотом. Президент АН ГДР генетик Штуббе тщательно
повторил эксперименты «первого мичуринца» и без труда показал, что
теоретически, а равно и практически все эти «великие открытия» – чепуха.
Директор Шведского государственного института генетик Густафссон
высказывался еще более решительно. «Некоторые ученые считают Лысенко
обманщиком. Постороннему человеку трудно решить, является ли он только
невежественным человеком, упрямцем, не признающимся в ошибке, или прямо
преступным обманщиком. Первое мы знаем, второе можем догадываться, третье
думают многие, в том числе в Советском Союзе». (14, стр. 259)
В 1948 году несколько иностранных членов академии наук СССР демонстративно
покинули нашу академию. В письме на имя С.И. Вавилова бывший президент
Лондонского Королевского общества, Нобелевский лауреат биолог сэр Генри
Г.Дейл объяснял свой поступок, открыто сказав о несостоятельности Лысенко,
его теории, насильственном способе который ЦК КПСС использовал для
установления его догматов. Н. Вавилова сэр Генри сравнивал с Галилео
Галилеем, а его брата с Гитлером, имея в виду постановление АН от 27 августа.
В пору, когда писались эти строки, казалось: мрак, объявший биологию, никогда
не рассеется, имена жертв Лысенко никогда не выйдут из забвения.
Заключительная речь президента ВАСХНИЛ 7 августа 1948 года звучала как речь
триумфатора: «Эта сессия – яркое свидетельство силы и мощи мичуринского
движения. Настоящая сессия показала полное торжество мичуринского направления
над менделизмом-морганизмом. Данная сессия поистине является исторической
вехой развития биологической науки». И под занавес, чтобы окончательно
запугать тех, кто еще пытался сохранить верность научной и человеческой
правде: «ЦК партии рассмотрел мой доклад и одобрил его (бурные аплодисменты,
переходящие в овации, все встают)» (14, стр. 263)
Но прошло всего лишь пять лет, и «тысячелетний рейх» академика Лысенко осел,
начал крениться и распадаться. «Умер Сталин, расстреляли Берию, и этого было
достаточно, чтобы все увидели: некоронованный король российской биологии –
гол. Было и после того немало «крестный ходов» и ходиков. Всякий раз, как
сельскохозяйственный кризис приводил страну на край голода, новые власти
кидались вздымать чудотворного Лысенко. Окончательно эта икона пала лишь в
октябре 1964 года с Хрущевым. Конец карьеры Лысенко подтвердил ту же истину,
что и ее начало: Лысенковщина – явление не научное, а чисто политическое».
(14, стр. 264)
Весной 1955 года сотрудник главной военной прокуратуры майор юстиции
Колесников извлек из архива КГБ все десять томов следственного дела № 1500.
Были вызваны все оставшиеся в живых участники трагедии и выслушаны их
показания. Прокурор, правда не осмелился вызвать к себе в кабинет Лысенко, но
Трофиму Денисовичу все же пришлось письменно объяснить, как он оценивает
труды и личность академика Вавилова, что думает об аресте своего бывшего
вице-президента. Нимало не смутясь, Лысенко написал, что «всегда считал
академика Вавилова академиком мирового значения», споры же его с Вавиловым
носили сугубо специальный характер «имели целью выяснение научных истин в
области биологии».
Итак, дело было закрыто, признано необъективным, организаторы и исполнители
расправы над ученым – разоблачены. В любой другой стране этих выводов было бы
достаточно, чтобы привести к судебной ответственности провокаторов и палачей.
Но никто из организаторов дела не понес наказание. «Торжество справедливости»
выразилось лишь в том, что жена замученного в тюрьме ученого Елена Ивановна
Барулина получила по почте типографски отпечатанную бумажку, в которой ее
извещали, что приговор по делу ее мужа академика Н.И. Вавилова отменен «за
отсутствием в его действиях состава преступления». Бумажка не содержала ни
соболезнования, ни указания, при каких обстоятельствах и когда ученый погиб и
где родные могут найти его могилу.
 И последний характерный
эпизод. Осенью 1967 года было разыскано предположительное место захоронения
Николая Ивановича. Похоронен он был предположительно в братской могиле (но в
отдельном гробу и в одежде, предоставленной сердобольной медсестрой) на
Саратовском Воскресенском кладбище. Было решено поставить памятник. Запросы в
государственные учреждения не принесли результата. Тогда Ф.Х. Бахтеев, М.А.
Поповский, сын академика Ю.Н. Вавилов обратились с просьбой присылать
пожертвования на памятник. Необходимая сумма была собрана, нашелся скульптор.
На сентябрь 1970 года было назначено открытие памятника.
И последний характерный
эпизод. Осенью 1967 года было разыскано предположительное место захоронения
Николая Ивановича. Похоронен он был предположительно в братской могиле (но в
отдельном гробу и в одежде, предоставленной сердобольной медсестрой) на
Саратовском Воскресенском кладбище. Было решено поставить памятник. Запросы в
государственные учреждения не принесли результата. Тогда Ф.Х. Бахтеев, М.А.
Поповский, сын академика Ю.Н. Вавилов обратились с просьбой присылать
пожертвования на памятник. Необходимая сумма была собрана, нашелся скульптор.
На сентябрь 1970 года было назначено открытие памятника.
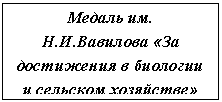 «Вот, наконец, все столпились вокруг задернутого покрывалом памятника. «Когда
полотнище упало, мы, старые вировцы, просто ахнули, – вспоминает К.В. Иванова.
– Лицо, изображенное в граните не имело ничего общего с лицом Николая
Ивановича». Это было как шок. Несколько сот человек стояло вокруг серого
гранитного обелиска, завершающегося большой, лишенной сходства головой. Но
вскоре все разъяснилось.
Когда скульптор Константин Сергеевич Суминов, закончив работу, собирался
перевезти монумент на кладбище, к нему в мастерскую явились представители
саратовского Главлита. «Искусствоведы в штатском», а по существу сотрудники
КГБ, не одобрили работу художника. Нет, речь шла не о портретном сходстве.
Оно кегебешников не интересовало. Но зато они потребовали, чтобы Суминов
стесал на гранитном лице ученого все морщины. Морщины эти, по их мнению,
намекали на дурное питание, которое покойный получал в саратовской тюрьме №
1. Нежелательным был объявлен и прищур вавиловских глаз. Особенно криминально
щурился правый. Он явно намекал, что в тюрьме ученого били. И чтобы уж
навсегда покончить с мрачным прошлым академика, главлитчики потребовали от
скульптора вырубить на лице гранитного Вавилова широкую улыбку. Суминов
попробовал протестовать, но ему пригрозили, что если указания Главлита не
будут выполнены, то памятник не разрешат установить, а сам скульптор будет
исключен из Союза художников. Станем ли мы обвинять в слабоволии художника,
которого власти вынудили собственными руками изуродовать свое детище. Скорее
следует посочувствовать ему.» (14, стр. 283)
«Вот, наконец, все столпились вокруг задернутого покрывалом памятника. «Когда
полотнище упало, мы, старые вировцы, просто ахнули, – вспоминает К.В. Иванова.
– Лицо, изображенное в граните не имело ничего общего с лицом Николая
Ивановича». Это было как шок. Несколько сот человек стояло вокруг серого
гранитного обелиска, завершающегося большой, лишенной сходства головой. Но
вскоре все разъяснилось.
Когда скульптор Константин Сергеевич Суминов, закончив работу, собирался
перевезти монумент на кладбище, к нему в мастерскую явились представители
саратовского Главлита. «Искусствоведы в штатском», а по существу сотрудники
КГБ, не одобрили работу художника. Нет, речь шла не о портретном сходстве.
Оно кегебешников не интересовало. Но зато они потребовали, чтобы Суминов
стесал на гранитном лице ученого все морщины. Морщины эти, по их мнению,
намекали на дурное питание, которое покойный получал в саратовской тюрьме №
1. Нежелательным был объявлен и прищур вавиловских глаз. Особенно криминально
щурился правый. Он явно намекал, что в тюрьме ученого били. И чтобы уж
навсегда покончить с мрачным прошлым академика, главлитчики потребовали от
скульптора вырубить на лице гранитного Вавилова широкую улыбку. Суминов
попробовал протестовать, но ему пригрозили, что если указания Главлита не
будут выполнены, то памятник не разрешат установить, а сам скульптор будет
исключен из Союза художников. Станем ли мы обвинять в слабоволии художника,
которого власти вынудили собственными руками изуродовать свое детище. Скорее
следует посочувствовать ему.» (14, стр. 283)
